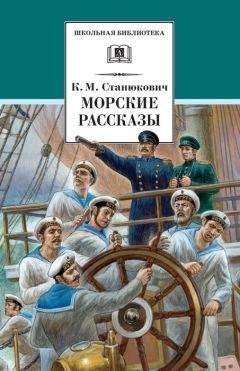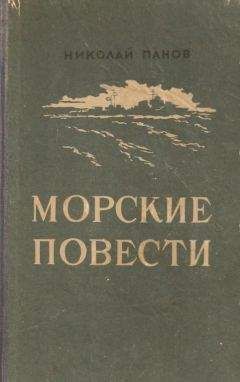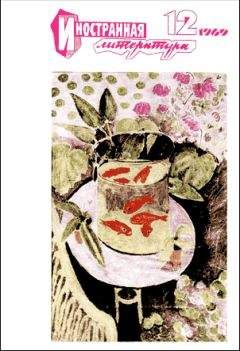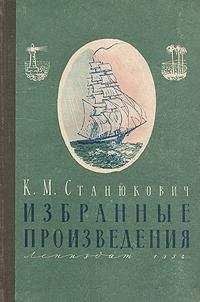Константин Изварин - Военно-морские рассказы
А в особо людных местах они целыми стаями... шастают.
Да-а, укачиваться хреново.
— Стой! — Довольный зам взмахнул обеими руками. — Приехали.
Матрос-водитель — лопоухий первогодок — выскользнул из кабины грузовика, вытер вспотевшее лицо черной пилоткой и покосившись на улыбающегося капитана третьего ранга, кинулся открывать борт.
— Сигареты получили, — поставил нас в известность зам. Таким тоном, словно сам набивал и заворачивал каждую.
— Угу, — сказали мы, стоящие у трапа в расслабленном состоянии. — Хорошее дело.
Некурящему не понять беспредельной радости, нарисовавшейся на монгольском лице Быстова, при виде забитого картонными коробками кузова. А потому что вдали от берегов — это всегда надолго и... мотыжно.
Потому что это в городе можно подойти к киоску, кинуть двадцать копеек (так, чтоб со звоном) и сказать: «Дай... этого... «Примы» дай».
А в море ты бы и рубль бумажный на прилавок бросил. И языком по зубам лязгнул... чтоб со звоном. И даже сказал бы: «Сдачи не надо».
Одна беда: нет в море киосков. Ни одного нет.
Потому и расплылся в улыбке старший матрос Быстов, что опухоль ушей в следствие недостатка никотина ему уже не грозила.
Ну... почти не грозила. Ибо Быстов пересчитал ящики в кузове, перемножил количество ящиков на количество пачек, а количество пачек на количество сигарет...
Потом разделил все это на предполагаемую численность курильщиков...
И поскучне-е-ел.
— Товарищ капитан третьего ранга, — обратился водитель к заму, — сам я разгружать не могу.
— А ну, товарищи моряки, — весело обратился зам к нам, стоящим все так же расслабленно, — разгружайте.
— Хм, — ответил вахтенный у трапа. — Я не могу. — И демонстративно поправил красную повязку. — Наряд.
— Верно, — сказал зам. И посмотрел на меня.
— Нет, — ответил я на его взгляд. — Пусть носят курильщики. — И демонстративно помахал перед собой растопыренной ладонью. Дабы зам убедился... что я ни в коем случае не принадлежу к их числу.
— Тоже верно, — хмыкнул зам. И перенес взгляд на Быстова.
— Дембель, — задумчиво ответил Быстов, мысленно все еще подсчитывая.
Зам аж позеленел.
— Так вот, товарищи, — сказал нам зам на вечерней поверке, и лицо его торжественно сияло. — В связи с ВЫБОРАМИ, — он так и произнес, каждую букву заглавной, — завтрашний день объявлен праздничным.
Зам выдержал паузу. Чуть ли не МХАТовскую. Он что, аплодисментов дожидался?
Строй равнодушно молчал. Двумстам матросам завтрашние выборы были как взрыв сверхновой на другом конце галактики.
— Поэтому, — продолжил, так и не дождавшийся аплодисментов, зам, — подъем завтра не производится.
Аплодисменты, не аплодисменты, но одобрительного гула зам дождался. Выборы выборами, но если начальство клятвенно заверяет, что завтра даже будить не будет, мы согласны полюбить даже советскую власть. Тоже завтра.
— Единственное, что вы завтра должны сделать, — со слащавой улыбкой продолжал зам, — это проголосовать. Голосование будет в клубе, — он указал на сопку, — агитпункт откроется в...
— Ладно, проголосуем, — дружно перебили зама из строя. — Раз такое дело, то... да. В клубе? Сходим.
— Разойдись, — отмахнулся зам.
Воодушевленные и обрадованные обещанием завтрашнего рая, мы еще долго не ложились спать. А чего? Если завтра... подъем... не производится.
И ровно в шесть утра нас сдернули с коек торопливые звонки.
Оркестр, надрывающийся по случаю постигшего нас внезапно праздника, хором взял фальшивую ноту, когда к нему, из темноты, строем в колонну по четыре выскочили двести озверевших с недосыпу... избирателей и улыбающийся зам в качестве бесплатного приложения.
Вот так мы... избирали... рекомендованного члена. Вот такой вот выходной... получился.
А подъем-то ведь и в самом деле не объявляли. Вместо него сыграли тревогу.
Время 23:25. Вокруг зима, снег, Камчатка — унылый пейзаж военно-морской базы. Вахтенный у трапа занят до невозможности важным делом. Опершись спиной в тулупе на леера, он рассматривает снежинки, задирая голову к свету кормового фонаря. Огромные, разлапистые — они опускаются с шорохом, падают на широкую, конопатую рожу вахтенного, тают, оставляя на щеках пресные капельки.
Тихо, темно, скучно.
Внезапно, общую сказочность ситуации нарушает хруст свеженаваленного снега под чьими-то заплетающимися ногами. Из-за надстройки выходит лейтенант Мелентьев — любимая «жертва» командира, вечный крайний.
Одет Мелентьев в тельник-майку, спортивные штаны; он босиком, вследствие чего поминутно спотыкается, неразборчиво матерясь.
В одной руке Мелентьева гитара, вторая судорожно сжимает никелированный матросский чайник из нержавеющей стали. Чайником товарищ лейтенант взмахивает в такт словам.
— За чаем пошел,... твою... м-м-м! — кричит Мелентьев остановившись и глядя куда-то в глубину снегопада.
Внезапно он упирает гитару в колено правой ноги и чайником по струнам со всего размаха: «Бр-рын-нь!!!».
Нечто подобное играли «битлы», — мелькает у вахтенного. — Только очень давно.
Мелентьев поворачивает голову в сторону берега. Вахтенный видит его стеклянные, как граненый стакан, глаза и тут же понимает, что товарищ лейтенант в сиську пьян.
Мелентьев тоже замечает вахтенного, его посещает желание пообщаться и товарищ лейтенант, приплясывая, движется к трапу.
Бедный вахтенный мгновенно осознает, что пьяный офицер хочет уйти с корабля в снежную ночь.
— Товарищ лейтенант, — кричит он, растопыривая руки, — сход с корабля запрещен! — Подумав еще, вахтенный добавляет: — Приказом командира.
Это было ошибкой. Упоминание командира приводит Мелентьева в ярость. Он поднимает стеклянные глаза к снегопаду и потрясая гитарой и чайником орет. Орет громко, продолжительно и, большей частью, нецензурно. Каждую фразу он заканчивает словами «товарищ командир» и подпрыгивает, размешивая босыми ногами свежий снег. Чайник и гитара звучат каждый по-своему, аккомпанируя.
Вахтенный, отвисая челюстью, тянется к звонку. И давит. Давит, давит.
Дежурный по кораблю, выскочивший на звонок, замирает статуей, безмолвный, глядя на эти танцы.
Нога Мелентьева цепляется за систему и товарищ лейтенант рушится лицом вниз. Прямо в мокрый и холодный снег, разбросав босые ноги и отбросив «музыкальные инструменты».
«А чего я-то? — читается в глазах дежурного и вахтенного. — Я сам обалдел!».
— Палец со звонка убери, — хмуро говорит дежурный вахтенному. И добавляет почти ласково: — Твою мать.
Мелентьев вяло копошится в снегу, пытаясь подняться.
Дежурный наблюдает его телодвижения с истинным военно-морским спокойствием. «Салага, — читается по его, закаленному всеми тяготами и излишествами многолетней службы, лицу. — Пить не умеет».
— Ладно, — говорит он вахтенному. — Нечего глазеть.
Дежурный рывком поднимает Мелентьева на ноги и трет ему морду снегом. Мелентьев не сопротивляется.
— Уши ему надо потереть, товарищ капитан-лейтенант, — подсказывает вахтенный.
— Видал я таких советчиков... — говорит ему товарищ капитан-лейтенант. И кратко уточняет где именно.
Но уши Мелентьеву все же трет. Мелентьев по лошадиному мотает головой и мычит.
— Пойдем, пойдем. — Дежурный подталкивает Мелентьева в сторону кают, размышляя попутно как пройти, что бы не попасться никому на глаза. И не дай бог командир узнает...
Их фигуры скрывает тьма и снегопад. Вахтенный поднимает гитару, чайник, прячет их под навес.
Снежинки блестят в желтом электрическом свете, со стуком бьют по лицу. Вахтенный закрывает глаза, ртом ловит замерзшую воду. Ему скучно.
— Нас у отца три сына, — поведал нам Вовка Ряузов.
— Двое умных, — продолжил я.
— А третий на «Кедрове» служил, — закончил Быстов.
Вот такая получилась... сказка.
— Переломы, сотрясения мозга были? — интересовались у меня на всех медицинских комиссиях.
И я, оттопыривая средний палец на левой руке в характерном жесте, говорил:
— Был накол кости. Второй фаланги.
Да, в конце восьмидесятых это выглядело еще вполне пристойно. Даже перед майором медицинской службы.
По тревоге
Корабль был старый. На ходу он протяжно скрипел ржавым корпусом, заполошно, как сердцем, стучал машиной и пыхтел как слон на турнике. Где-то в Керчи уже рвался со стапелей, уже обрастал обшивкой и весело сверкал электросваркой новенький красавец-сторожевик, призванный заменить усталого ветерана. Уже нет-нет, да и обращали свои взоры в сторону корабельного кладбища командир и экипаж, а высокое командование почесывало под носом золотым «Паркером», готовясь поставить хитрую закорючку под приказом...
А старый тральщик, в ломоте и отдышке, доскребывал последние дни своей долгой службы, все так же грозя супостату на дистанции двенадцати морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива, все так же гордо нес зеленый пограничный флаг с эмблемами и орденом Красного Знамени. И все так же внутри него сидели люди. Только теперь по тревоге. Преимущественно. И тревоги эти плавно перетекали одна в другую. Старенькая машина с трудом справлялась с даже средней силы штормом. Однажды, на Курилах, японцы просили помощи.