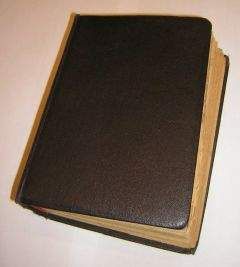Ярослав Гашек - Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. Часть вторая
Пока вольноопределяющийся разражался уничтожающей критикой полковых дел, полковник Шредер сидел в ресторане в обществе офицеров и слушал, как поручик Кречман, вернувшийся из Сербии, раненый в ногу (его боднула корова), рассказывал о сражении, в котором он участвовал (он наблюдал из штаба, к которому был прикомандирован, за атакой на сербские позиции).
— Но вот выскочили из окопов… Бегут, перелезают через проволочные заграждения и бросаются на врага… Ручные гранаты за поясом, все в противогазовых масках, винтовка на перевес, готовая и к стрельбе и к штыковому удару. Пули свистят. Вот падает один, в тот момент когда вылезает из окопов, другой падает на блиндаже, третий падает, пробежав несколько шагов, но лавина катится дальше, с громовым «ура», вперед, в тучи дыма и пыли! Неприятель стреляет со всех сторон, из окопов, из воронок от снарядов и поливает нас свинцом из пулеметов. То тут, то там падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельское скорострельное орудие. Многие падают, но товарищи уже у цели. Ура!.. Офицер падает… Ружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное… Целый взвод наших валится вдруг… Неприятельские пулеметы: «тра-та-та-тра-та-та!» Падает… Простите, я дальше не могу, я пьян…
Раненый в ногу поручик умолк и с тупым видом остался сидеть в кресле. Полковник Шредер с благосклонной улыбкой стал слушать, как капитан Спиро, ударяя кулаком по столу, словно с кем-то споря, нес какую-то околесицу:
— Поймите раз навсегда: у нас под знаменами австрийские гвардейские уланы, австрийские ополченцы, боснийские егеря, австрийские егеря, австрийская армейская пехота, венгерская пехота, тирольские стрелки его величества, боснийская пехота, тирольские пешие гонведы, венгерские гусары, гвардейские гусары, конные егеря, драгуны, армейские уланы, артиллерия, обоз, саперы, санитары, флот. Понимаете? А у Бельгии? Первый и второй наборы составляют оперативную часть армии, третий набор обслуживает нужды тыла… — Капитан Спиро стукнул по столу кулаком — Гвардия несет службу в мирное время внутри страны!
Один из молодых громко, чтобы полковник услышал и удостоверился в непоколебимости его воинского духа, твердил своему соседу:
— Туберкулезных я посылал бы на фронт, им от этого вреда не будет; да и помимо того лучше потерять убитыми больных, чем здоровых.
Полковник улыбался. Но внезапно он нахмурился и, обращаясь к капитану Венцелю, сказал:
— Удивляюсь, почему поручик Лукаш избегает нашего общества? С тех пор как он приехал, он ни разу не был среди нас.
— Стихи пишет, — насмешливо отозвался капитан Сагнер. Не успел приехать, как уже влюбился в жену инженера Шрейтера, увидав ее в театре.
Полковник недовольно посмотрел на Сагнера.
— Говорят, он хорошо поет куплеты.
— Еще в кадетском корпусе всех нас куплетами смешил, — ответил капитан Сагнер. — И анекдотов у него уйма. Не знаю, почему он сюда не ходит.
Полковник сокрушенно покачал головой:
— Нету нынче среди офицеров того чувства товарищества, какое было в наше время. Бывало, каждый из нас, офицеров, старался чем-нибудь развлечь других, когда мы собирались. Поручик Данкель (был такой), так тот, бывало, разденется до нага, ляжет на пол, воткнет себе в задницу селедку и изображает морскую царевну. Другой, подпоручик Шлейснер, умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, подражать мяуканью кошки и жужжанью шмеля. Помню еще капитана Скодай. Тот всегда, когда мы только хотели, приводил с собой трех девочек-сестер. Они у него были как дрессированные. Поставит их да стол, а они начинают в такт раздеваться. А у него была дирижерская палочка, он, значит, ими и дирижирует; шикарный был дирижер! Чего только он с ними на кушетке не проделывал! А однажды велел поставить посреди комнаты ванну с теплой водой, и мы один за другим должны были с этими тремя девочками купаться, а он нас фотографировал.
Полковник Шредер при одном воспоминании блаженно улыбнулся.
— Какие пари мы в этой ванне заключали!.. — продолжал полковник, гнусно причмокивая и ерзая в кресле. — А нынче? Разве это развлечение? Куплетист — и тот не появляется. Даже пить младшие офицеры не умеют! Двенадцати часов еще нет, а за столом уже, как видите, пять пьяных. В былое время мы по двое суток сиживали и чем дольше пили, тем трезвее становились. А лили в себя без перерыва пиво, вино, ликеры… Нету нынче того боевого духа. Чорт его знает, что тому причиной! Ни одного остроумного слова, все какие-то бесконечные рассказы. Послушайте только, что на том конце говорят.
На другом конце стола велся серьезный разговор:
— Америка в войну вмешаться не может. Американцы с англичанами на ножах. Америка к войне не подготовлена.
Полковник Шредер вздохнул.
— Вот она, болтовня офицеров запаса. Нелегкая их сюда принесла. Вчера еще сидел этакий господин — строчил в каком-нибудь банке или служил в лавочке, завертывал товар в бумагу и торговал кореньями, корицей и гуталином или учил детей в школе, что волка из лесу гонит голод, а нынче хочет быть ровней кадровым офицерам, во всем лезет разбираться и всюду сует свой нос. А кадровые офицеры, как, например, поручик, Лукаш, те не изволят среди нас показываться.
Полковник пошел домой в отвратительном настроении духа. На следующее утро настроение у него стало еще хуже, когда он, еще лежа в постели, прочел в газетах в сводке с театра военных действий, что наши войска отошли на заранее приготовленные позиции. Наступил как раз славный для австрийской армии период, как две капли воды похожий на период Шабаца.
Таким образом к десяти часам утра полковник был вполне подготовлен к выполнению функции, которую вольноопределяющийся назвал страшным судом.
Швейк и вольноопределяющийся стояли на дворе и поджидали полковника. Все были в полном сборе: фельдфебель, дежурный офицер, адъютант полка и писарь из канцелярии полка с делами о провинившихся, ожидающих меча Немезиды — явки. Наконец в сопровождении начальника команды вольноопределяющихся, капитана Сагнера, показался нахмуренный полковник. Он нервно стегал хлыстом по голенищам своих сапог.
Приняв рапорт, полковник среди гробового молчания прошелся несколько раз около Швейха и вольноопределяющегося, которые делали «равнение направо» и «равнение налево», смотря по тому, на каком фланге находился полковник. Он прохаживался так долго, что можно было свернуть себе шею, и наконец остановился перед вольноопределяющимся.
Тот отрапортовал: «вольноопределяющийся такой-то…»
— Знаю, — сухо сказал полковник, — бывший вольноопределяющийся… Кем вы были до войны? Студентом философии? Ага, — значит, спившийся интеллигент… Господин капитан, — сказал он Сагнеру, — приведите сюда всю команду вольноопределяющихся… Да-с, — продолжал полковник, — и с такими вот господами студентами-философами приходится нашему брату мараться. А ну-ка! Кру-гом! Так и знал. Складки на шинели не заправлены. Словно только что о девкой в борделе валялся. Погодите, голубчик, я вам покажу!
Команда вольноопределяющихся вышла на двор. Полковник скомандовал выстроиться замкнутым четыреугольником, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом.
— Посмотрите на этого человека. — начал свою речь полковник, указывая на вольноопределяющегося. — Он пропил, замарал вашу честь, честь вольноопределяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими свои команды в бой навстречу славе и опасности. А куда повел бы свою команду этот пьяница? В кабак! Он вылакал бы весь солдатский ром сам… Что вы можете сказать в свое оправдание? — обратился он к вольноопределяющемуся. — Ничего? Полюбуйтесь на него! Он не может сказать в свое оправдание ни слова. А еще изучал классическую философию! Вот уж действительно классический тип! — Полковник произнес последние слова, нарочито медленно и отплюнулся — философ, который в пьяном виде среди ночи сбивает фуражку с головы офицера! Хорошо еще, что это был только какой-то артиллерийский офицер.
В тоне, каким это было сказано, было сосредоточено все презрение и вражда 91-го полка к будейовицкой артиллерии. Вражда была глубокая и непримиримая, своего рода вендетта[42], кровавая месть, которая передавалась по наследству от одного выпуска другому. Горе тому артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев, и наоборот. Часто повторялись случаи, что пехотинцы спихивали артиллеристов в Влтаву, как и случаи обратные. Между обеими воинскими частями нередко происходили драки в «Порт-Артуре», «У Розы» и в многочисленных других увеселительных учреждениях южно-чешской столицы.
— Но тем не менее, — продолжал полковник, — за подобный поступок он должен быть наказан в назидание другим, исключен из команды вольноопределяющихся, уничтожен в моральном смысле слова. Таких интеллигентов армии не нужно. Писарь!