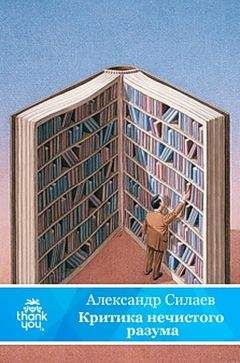Александр Силаев - Так хохотал Шопенгауэр
— Ну, блин, — радостно усмехнулся Леха. — Пляшите, ребята. Али не пляшется чего? Не веселится?
— Мы пробовали, — извинительно пробормотал малый. — Не веселится нам. Душа-то мается. Раньше все понятно: кто Валету платил, кто Хоме, кто Шлепе. А теперь? Привыкли мы к определенности-то. Раз в неделю, по пятницам. Кто не платил, того в ночь на воскресенье сжигали. А сейчас боязливо. Никто не платит, и в ночь на воскресенье никто не спит. А если подожгут? Не уплачено ведь. Знать бы, кому давать, на три месяца вперед заплатили.
— Ну, бля, вы даете, — присвистнул Леха, и папироса выпала на салатный ковер. — Ну и бля, ребята.
— Да мы понимаем, — промямлил малый. — Да, конечно, новые времена. Свобода, так сказать. Можно никому не платить, только неспокойно ведь. Тут некоторые и за год вперед согласны внести. Главное ведь в чем? Чтоб душа не маялась. Деньги отдал и гуляй спокойно. А пока деньги не отдашь, не гуляется. Вы уж извините, привыкли мы.
— Ну не хера, ребята, — задумался Леха. — Даже не знаю, что и сказать. Тяжело у вас, ребята.
— Может, чего подскажите? — предложил малый, стыдливо поднимая кепку. — Может, кого нового назначите вместо тех?
— Никого, на хер, не назначу! — заорал избавитель. — Мне будете платить, овцы стриженые. Мне, полудурки сивые, ясно? А другому уплатите, порешу. Понятно, недомуты обоссанные? С сегодняшнего дня всех на счетчик. И делаем так: чтоб к пятнице каждый расплатился на год вперед. Кто не расплатится, подпалим в ночь на воскресенье.
— А если расплатиться? — пропыхтел мужик с непонятным свертком.
— Тогда не подпалим, — согласился Леха. — Понятно, лоханы?
— Понятно, — радостно загалдели народные делегаты. — Мы так и думали.
Зашуршали свертками, распахнули чемоданы, вытряхнули на ковер содержимое сеток. И посыпались денежные бумажки.
— А мы заранее подготовили, — понимающе хихикнул малый. — Мы ведь знали, чем дело кончится. Знали, батенька, что сжалитесь, возьмете под могучую крышу.
— Молодцы вы, мужики, предприимчивые, — похвалил Леха.
— А то как же, — горделиво заметил малый. — У нас своя выучка. Не каждый такую жизненную школу прошел.
— Молодец, мужик, молодец, — приговоривал Леха, барски хлопая малого по щеке.
Тот закатывал глаза, вздыхал, жмурился. То ли радость показывал, то ли стеснение скрыть хотел. Остальные толпились. А затем самостийно родили очередь. Каждый подходил к Лехе и пригибался. Секунд десять он хлопал очередного по щекам, тянул за нос, дергал за аккуратный чуб. Душевно так хлопал. И тянул ласково. Затем ухмылялся и лениво пихал ногой в сторону. И так каждого.
— Вот вам, братишки, инаугурация, — приговаривал Леха. Посвятив всех, отправил в рот новую папироску и затянулся. С наслаждением выдохнул дым.
— Мы пошли, наверное? — опасливо спросил малый.
— Проваливайте, конечно, — равнодушно ответил Леха. — Только список положь на стол, какая сука чего сдала. И вали на хрен со своими ублюдками.
— Это мы быстро, — засуетился малый. — Нам не впервой.
— Работай, урод! — гаркнул Леха.
Малый торопливо извлек из потайного кармана мятый листок и полудохлую шариковую ручку. Она казалась зверски обгрызенной и писала из последних шариковых сил. С трудом ее хватило на перечисление одиннадцати фамилий.
— Адреса и телефоны не забудь, — напомнил Леха.
Малый быстренько опросил мужиков и вписал требуемое. Затем задал вопрос и чиркнул одиннадцать чисел.
— Сведи баланс, дурень.
— Это как? — не понял мужик.
— Пересчитай наличку и сверь.
Малый сгреб купюры в единую кучу и два раза пересчитал.
— Сошлось, — радостно сказал он. — Мы люди честные.
— Выдвини ящик, положи туда и проваливай.
Малый сделал, как его просили.
…Это было первого августа. Три месяца назад Адику исполнилось двадцать пять. Он стоял в огромной толпе, изнутри наполненный счастьем. Он плакал и благодарил Господа за возможность пережить такое. Этот человек смотрел широко и проживал историю мира как свою собственную. Сегодня был величайший день, 1 августа 1914 года. Он чувствовал и радовался величию. Маленький человек в огромной толпе. Его толкали и втирали в чьи-то серые спины. А он, маленький надломленный неудачник, стоял посреди людей. И плакал от счастья. Господи, лучший день истории!
…Усталым, но довольным он вернулся домой. Жена и дети окружили малого.
— Ну как оно? — с дрожью в голосе спросила супруга.
— И не говори, — интригующе понизил он голос.
— Папа, жить будем? — хватал его за рукав семилетний мальчик.
— Будем, дорогие мои, — радостно сообщил малый, упрятывая кепчонку на место. — Я все сделал. Хотел пришелец отвертеться, но мы его оплели.
— Я в тебя верила, — прослезилась жена.
— Расскажи, папа, ну расскажи, — просили дети, юный Саша и подросшая Даша.
— Расскажи, милый, — требовала супруга.
Он плюхнулся в кресло, лукаво улыбнулся и произнес:
— Нелегко найти приличную крышу, чтоб надежная и не отмороженная. Для новичка дело гиблое. Но мы с мужиками люди тертые, в крышах толк знаем. Собаку, так сказать, съели. Собрались мы, покумекали: по-всякому выходит, что круче заезжего парня никого нет. Мы к нему и давай обрабатывать. Он, конечно, начал куражиться. Вы теперь свободные, говорит. А нам из-за этого пропадать? Ну ничего, мы его хитростью уломали. Назначьте, просим, кого нового на сбор денег. Ему же обидно постороннего назначать. Он же старался, жизнью рисковал. Назначил себя. Не понял, наверное, что мы им манипулировали.
— Дипломат ты у меня, — рассмеялась жена и поцеловала малого в щеку.
— Я старался, — объяснил он. — Рассудительность города берет. Военная смекалка всех побеждает.
— Стратег мой любимый, — игриво шептала уродливая супруга.
Она послала детей во дворе поиграться и начала его раздевать. Стащила с малого пиджачок, сдернула брюки к чертям собачьим. Пришлось ему уродливую ласкать. Пришлось показать мужское ожесточение и шептать уродливой фантазийную любомуть. Не отвертелся мужичок, позабыл военную хитрость.
А к Лехе корреспонденты нагрянули. Герой лихого времени, как никак. И давай Алеху допрашивать. Где, мол, родился, чего делал, зачем пришел. Много ли водки выпивает и какие у него политические пристрастия.
— Так что с пристрастиями? — пытал его немолодой лысоватый дядька.
— У меня с пристрастиями правильно, — посмеивался Алеха.
— Неужели монархист? — приставал к нему щелкоперый.
— Не-а, — протянул Леха.
— Это жаль, — расстроился дядька. — Нам монархисты в номер нужны. Ну может, хоть большевик?
— Еще чего, — обиделся он.
— Признайтесь тогда в фашистких симпатиях.
— А на хрен я признаваться буду? — не понял Леха. — Ты кто такой, чтоб с тобой по душам базарить?
— Я власть четвертая, — рассердился дядька.
— А я пятая, — расхохотался Леха. — Пятая-то покручее будет. Много вас таких, щелкоперов. А я один. Видал стройку за окном? Мой памятник мастырят.
— Тебе что, раскрутка не нужна? — дивился газетчик. — Я тебя стране хотел показать. Под рубрикой «настоящие мужики».
— Раскрутка — это хорошо, — медлительно сказал Леха. — Извини, брат. Спрашивай, чего хочешь: про еду, про баб, про годы молодые.
— И какая диета?
— А никакой. Ерунда диеты. Есть можно все, а правильно так: побольше, но редко. Время экономится.
— Что думаешь о женщинах?
— Я о них ничего не думаю, — охотно пояснил Леха. — Я думаю, что о них вредно думать. Женщина либо есть, либо нет. Если есть, раздумывать вредно. А если нет, то думать вообще труба. За пять минут до суицида додумаешься, а еще через пять до мировой революции. А еще через пять голова сломается от внутреннего давления. Тут делать надо.
— И что ты делаешь, когда ее нет?
— Мужским делом занимаюсь, — похвастался Леха. — Бухаю с братишками или порядок навожу.
— А как наводишь?
— Да просто: пару козлов ухерачить, остальные сами наладятся.
— А не жестоко убивать?
— Сначала, конечно, стресс. А потом человека убить как на рыбалку съездить. Удивление только первый раз. Первый раз что угодно бросает в стресс: первый экзамен, первый секс, первое знакомство со смертью. А потом не удивляешься, все привычно. Убивать привыкаешь.
— Я не то имел ввиду. Совесть не мучит?
— А кого ей мучить, если привык?
— Некоторых ведь мучит.
— Это от неверного воспитания.
— А любить ты способен?
— Я-то? Еще как способен. В десяти, наверное, смыслах.
— А есть еще девять?
— Ну смотри сам. Родину люблю, друзей люблю, самого себя обожаю до безумия. Женщину могу любить неслабее. А еще я люблю лето. Люблю горы. Люблю оружие. Люблю, когда меня любят.
— Книги-то, наверное, не читал?
— Не угадал, брат. Читал и кое-что перечитывал. В детстве, например. А потом все чаще замечал закавыку: в жизни бывает одно, а в книгах другое. Сначала я думал, что это жизнь такая неправильная. Отклоняется, стервоза, от книжного эталона. А потом решил по-другому: это писатели чего-то не секут в эталоне жизни. Ну их, решил, пусть в лес катятся. Не все, конечно. Но процентов девяносто пять.