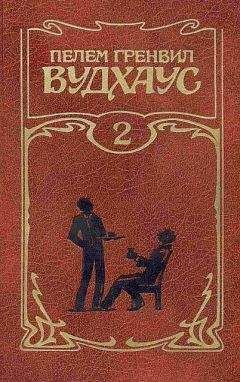Вся правда о Муллинерах (сборник) (СИ) - Вудхауз Пэлем Грэнвилл
— Принимаю «Эй, смелей!»
— «Эй, смелей!»?
— Да. Такое средство, изобрел мой дядя Уилфрид. Творит чудеса.
— Угостите меня, мой дорогой. Что-то я приуныл. И с чего они вздумали ставить статую Туше? Метал в людей бумажные стрелы, вымоченные в чернилах. Что ж, не нам судить… Пишите Энтвистлу, мой дорогой, мы едем в Харчестер.
Хотя, как он и сказал Августину, епископ не был в школе двадцать лет, там почти ничего не изменилось — ни парк, ни здание, ни люди. Все было точно таким, как сорок три года назад, когда он впервые туда явился.
Вот кондитерская, где шустрый подросток с острыми локтями норовил протолкаться к прилавку и свистнуть булочку с джемом. Вот — баня, вот — футбольное поле, вот — библиотека, спортивный зал, дорожки, каштаны, все — такое, каким было в те дни, когда он знал о епископах только то, что у них шнурки на шляпе.
Нет, разница была: на треугольном газоне, перед библиотекой, стоял пьедестал, а уж на нем — некая глыба, то есть статуя лорда Хемела, ради которой, собственно, он и приехал.
Шли часы, им все больше овладевало какое-то чувство. Поначалу он принял его за естественное умиление, но естественное умиление, как-никак, ублажает душу; а это — никак не ублажало. Однажды, обогнув угол, он увидел капитана футбольной команды во всей его славе и затрясся, как желе. Капитан почтительно снял шапочку; неприятное чувство прошло, но епископ успел его опознать. Именно это ощущал он сорок с лишним лет назад, когда встречал начальство.
Он удивился. Получалось так, словно какая-то фея тронула его волшебной палочкой, обратив тем самым в измазанного чернилами мальчишку. Общество Тревора Энтвистла это укрепляло. Когда-то юный Килька был его лучшим другом и почему-то совсем не изменился. Увидев его в директорском кресле, при мантии и шапочке, епископ чуть не подпрыгнул — ему показалось на долю мгновения, что, ведомый своим особым юмором, Килька идет на страшный риск.
Как бы то ни было, он с облегчением встретил день торжества.
Само оно показалось ему скучным и глупым. В школьную пору он не любил лорда Хемела и с большим отвращением думал о том, что надо восхвалять его звучной речью.
Кроме того, он боялся. Ему казалось, что вот-вот выйдет кто-нибудь из начальства, даст по кумполу и скажет: «Не выпендривайся».
Но этого не случилось. Напротив, речь имела большой успех.
— Дорогой епископ, — сказал старый генерал Кроувожад, возглавлявший совет попечителей, — посрамили вы меня, старика. Стыдно вспомнить, что я лепетал. А вы… Великолепно! Да, ве-ли-ко-леп-но.
— Спасибо большое, — выговорил епископ, краснея и копая ногой землю.
Время шло, усталость росла. После обеда он в кабинете директора мучился головной болью. Преподобный Тревор Энтвистл тоже был невесел.
— Нудные эти торжества, — сказал он.
— Еще бы!
— Даже от старого портвейна лучше не стало…
— Ни в малой мере. Интересно, не поможет ли «Эй, смелей!»? Такое тонизирующее средство, мой секретарь принимает. Ему-то оно приносит пользу; удивительно бодрый человек. Не попросить ли дворецкого, чтобы он зашел к нему и позаимствовал бутылочку? Он будет только рад.
— Несомненно.
Дворецкий принес из комнаты Августина полбутылки густой темной жидкости. Епископ вдумчиво ее оглядел.
— Проспекта нет, я вижу, — сказал он, — но не гонять же беднягу снова! Да он ушел, наверное, вкушает заслуженный отдых. Разберемся сами.
— Конечно, конечно. Оно горькое? Епископ лизнул пробку.
— Нет. Скорее приятное. Странный вкус, я бы сказал — оригинальный, но горечи нет.
— Что ж, выпьем для начала по рюмочке.
Епископ налил два бокала и серьезно отпил из своего. Отпил и директор.
— Вполне, — сказал епископ.
— Недурно, — сказал директор..
— Как-то светлеешь.
— Не без того.
— Еще немного?
— Нет, спасибо.
— Ну, ну!
— Хорошо, чуточку.
— Очень недурно.
— Вполне.
Прослушав историю Августина, вы знаете, что брат мой Уилфрид создал это снадобье, чтобы подбодрить слонов, когда они робеют перед тигром; и прописывал он среднему слону столовую ложку. Тем самым вы не удивитесь, что после двух бокалов епископ и директор, скажем так, изменились. Усталость ушла вкупе с депрессией, сменили же их веселость и обострившееся чувство юности. Епископ ошущал, что ему — пятнадцать лет.
— Где спит твой дворецкий? — спросил он, немного подумав.
— Бог его знает. А что?
— Да так. Хорошо бы поставить у него в дверях капканчик.
— Неплохо!
Они подумали оба. Потом директор хихикнул.
— Что ты смеешься? — спросил епископ.
— Вспомнил, как ты глупо выглядел с этим, с Тушей. Несмотря на веселье, высокий лоб епископа прорезала морщина.
— Золотые слова! — произнес он. — Хвалить такого гада! Мы-то знаем… Кстати, чего ему ставят памятники?
— Ну, все-таки, — сказал терпимый директор, — он много сделал. Как говорится, строитель Империи.
— Можно было предугадать. И лезет, и лезет, всюду он первый! Кого-кого, а его я терпеть не мог.
— И я, — согласился директор. — А как мерзко смеялся! Будто клей булькает.
— А обжора! Мне говорили, он съел три бутерброда с ваксой, это после консервов.
— Между нами, я думаю, он крал в кондитерской. Нехорошо клеветать на человека, но посуди сам, видел ты его без булочки? То-то и оно.
— Килька, — сказал епископ, — я скажу тебе таку-ую штуку! В 1888 году, в финальном матче, когда мы сгрудились вокруг мяча, он лягнул меня по ноге.
— А эти кретины ставят ему статуи! Епископ наклонился вперед и понизил голос:
— Килька!
— Да!
— Знаешь что?
— Нет.
— Подождем до двенадцати, пока все лягут, и выкрасим его голубеньким.
— А почему не розовым?
— Можно и розовым.
— Нежный цвет.
— Верно. Очень нежный.
— Кроме того, я знаю, где розовая краска.
— Знаешь?
— Знаю.
— Да будет мир в стенах твоих, о Килька, и благоденствие в чертогах твоих,[88] — сказал епископ.
Когда епископ через два часа закрыл за собою дверь, он думал о том, что Провидение, благосклонное к праведным, буквально превзошло себя. Крась — не хочу! Дождь кончился; но месяц, тоже не подарок, стыдливо прятался за грядой облаков.
Что до людей, бояться было нечего. Школа после полуночи — пустыннейшее место на земле. Статуя с таким же успехом могла стоять в Сахаре. Взобравшись на пьедестал, они по очереди быстро выполнили свой долг. Лишь на обратном пути, стараясь идти потише, нет — уже подойдя к входной двери, испытали они удар судьбы.
— Чего ты топчешься? — прошептал епископ.
— Минутку, — глухо отозвался директор, — наверное, в другом кармане.
— Что?
— Ключ.
— Ты потерял ключ?
— Да, кажется.
— Килька, — сурово сказал епископ, — больше я не буду красить с тобой статуи.
— Уронил, что ли…
— Что нам делать?
— Может, открыто окно в кладовке?..
Окно открыто не было. Дворецкий, человек верный и ответственный, уходя на покой, закрыл его и даже спустил жалюзи.
Поистине, уроки детства готовят нас к взрослой жизни.
— Килька! — сказал епископ.
— Да?
— Если ты все не перестроил, за углом есть водосточная труба.
Память не подвела его. Среди плюща темнела та самая труба, по которой спускался он летом 86-го, чтобы выкупаться ночью.
— Лезем, — властно сказал он.
Когда они достигли окна, епископ сообщил другу, что, если он еще раз лягнет его, ему это припомнится. И тут окно внезапно распахнулось.
— Кто там? — спросил звонкий молодой голос.
Директор растерялся. Да, было темно, но все же он рассмотрел неприятную клюшку для гольфа и признался было, кто он, чтобы избежать дурных подозрений; но ему пришло в голову, что и это — опасно.
Епископ соображал быстрее.