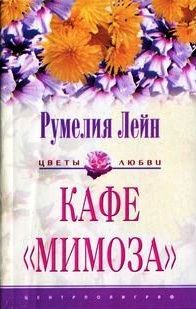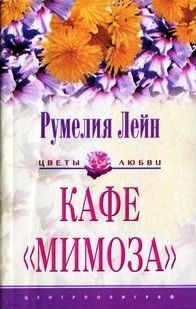Виктор Шендерович - Кинотеатр повторного фильма
– О-го-го, иду! – радостно кричит небритый старик и быстро ковыляет вниз.
– Стой тут, я мигом, – говорит он, обернувшись. – Знакомая твоя, вишь, раньше успела. В порядке, значит, очереди…
Вороны орут в небе. Ветер начинает раскачивать стволы. Еще не веря в спасение, человек в черном пальто, скуля и цепляясь за кустарник, бросается карабкаться наверх по склону – туда, где возле такси с распахнутой дверцей лежит на снегу его чемодан.
Там, наверху, он оборачивается. Лодка покачивается на середине реки, и лица женщины уже не видно. Визг уключин гонит его, падающего и тяжко бегущего прочь по снежной целине, настигает и снова гонит прочь, белое поле блестит и расплывается перед глазами, медленно превращаясь в залитый светом потолок…
Он любил стоять у окна палаты, глядя на медсестричек, перебегающих из корпуса в корпус в накинутых на плечи пальто. Дело шло к весне. Сердце почти не беспокоило его, и лечащий врач был им доволен.
Кроме жены и матери, никто больным не интересовался; только они да еще какой-то придурковатый таксист, вкативший однажды на своей колымаге через ворота морга.
Ему ответили в окне справок, что состояние хорошее.
1987
СИНДРОМ СТЕПАНОВА
Степанов ехал в троллейбусе с работы и вдруг вспомнил, как сжигали Яна Гуса. Вспомнил, как, ахнув, качнулась толпа за оцеплением, когда, потрескивая, занялся хворост, и вороний крик, взмывший над площадью, и самого Гуса – яростного, намертво прикрученного к тесаному столбу. В давке было трудно дышать, пахло потом и луком. Степанов вспомнил старушку, медленно идущую через площадь, ее мелкое глуповатое лицо и ветку хвороста в птичьей сухой лапке, гогот и улюлюканье толпы. А вот фразы насчет святой простоты, Степанов не помнил: да ее, кажется, и не было вовсе.
Гус молчал, пока, механически, творил ему отпущение бритоголовый детина с пятном от завтрака на сутане, и только когда пламя взметнулось по ногам, закричал что-то срывающимся голосом, но тут заголосили женщины. Через минуту пламя бушевало в полной тишине; люди начали расходиться.
Выйдя из троллейбуса, Степанов перешел через улицу, остановился прикурить, но зажигалка зачиркала вхолостую. Он потряс ее, но когда из ладоней выскочил наконец столбик огня, еще несколько секунд стоял, забыв про сигарету.
Что-то было не так.
Домой Степанов приехал совершенно разбитым. Заварил чай, сунул на всякий случай под мышку градусник, бухнулся в кресло, взял газету с кроссвордом. Прикрыл глаза. Кровь пульсировала в висках глухими толчками; в таком же ритме в осеннем Берлине, в тридцать четвертом, печатали шаги мускулистые ребята в униформе, и в сыром сумраке орал из репродукторов самозаводящийся фальцет.
Восторженно визжали фройлен в узких пальто. Возле Степанова стоял какой-то студентик и пронзительно кричал «хайль», не забывая посматривать, все ли кричат вокруг него.
Степанов поежился, вспомнив этот внимательный взгляд из-за стеклышек.
– Да, – вслух сказал он, и это означало, что все так и было: и истеричные фройлен со вскинутыми в приветствии руками, и песнопения (да-да, они там все время пели), и очкарик.
Он помнил это.
Степанов вынул градусник (тридцать шесть и восемь, и причем тут вообще градусник), пододвинул телефон и, посидев еще немного, набрал номер.
– Ну, Степанов, ты непрост, – рассмеялась женщина на том конце провода, когда он, смущаясь, рассказал о симптомах. Но, сменив тон, тут же успокоила: ничего страшного, давно описанное явление; все это Степанов слышал, читал, смотрел в кино, потом что-то подтолкнуло воображение (горящие листья на бульваре, шум крови в ушах), и началась неуправляемая цепь ассоциаций на фоне общей эмоциональной возбужденности пациента, о каковой возбужденности ей, кстати, известно, как никому.
Женщина посоветовала пациенту принять таблетку феназепама, хорошенько выспаться, а наутро позвонить еще раз тому же врачу и пригласить врача в какое-нибудь хорошее кафе…
Поговорив еще в таком тоне, они повесили трубки, а в десять Степанов лег и проспал ночь без сновидений.
Проснулся он за несколько минут до будильника. Спать не хотелось, озноб прошел, голова была ясной. Вчерашнее ушло без следа.
«Интересно, что это со мной было?» – как о постороннем, подумал Степанов и попытался что-нибудь вспомнить. Вспомнилась девушка, которую он любил когда-то, запах ее волос и шепот – десятый класс, весна семьдесят второго. Вспомнился выездной детсад в Подлипках, папа и мама, приехавшие на родительский день, начало шестидесятых, да – лето шестьдесят первого, как раз в тот день полетел Герман Титов.
Последнее, что помнил Степанов, был двор-колодец в районе Пироговки, сумерки и мама, зовущая ужинать. Дальше начиналось размытое изображение, невыученный урок из учебника истории, где римскому императору пририсованы со скуки очки с усами, но уже ни голосов, ни лиц…
«Как же так? – подумал Степанов. – Ведь я вчера все помнил. Я же все помнил!»
Острое чувство тревоги вдруг накатило на сердце – на секунду показалось Степанову, что от четкости фокуса, от ясности его памяти зависит что-то очень важное для всех.
Потом тревога ушла; Степанов лежал в постели, смотрел на разлинованный солнцем потолок и собирался с мыслями. Легкая тюлевая занавеска, поддуваемая ветром, чуть покачивалась, шуршала по ребру письменного стола. Потикивали часы. Впереди маячил рабочий день с тысячью маленьких неотложных дел; разнеживаться было некогда. С улицы доносились голоса, и один из них – резкий и чуть надсадный – показался Степанову знакомым.
Спустя час, маясь на троллейбусной остановке, он вспомнил: такой голос был у генерала Милорадовича, когда, рывками бросая коня по заснеженной площади, он кричал что-то угрюмому каре, застывшему в ожидании Трубецкого.
1985
КИНОТЕАТР ПОВТОРНОГО ФИЛЬМА
Я увидел ее у кассы, пока пытался дозвониться жене.
Она рассматривала афишу на апрель: зеленый распахнутый плащ, в тонкой руке – пакет (книжки, тетрадки, яблоко – вечный студенческий набор). Я еще успел подумать: надо же, до чего похожа– но тут девушка обернулась.
Это была она, и ей было девятнадцать, как тогда, вначале.
Двенадцать лет назад.
Я повесил трубку на рычаг. Стрельнув глазами, девушка знакомо сморщила носик: вот, мол, уставился…
В дверной проем врывались свет и гомон улицы Герцена. От окошка кассы отлип долговязый парень с билетами в руке, улыбнулся, что называется – рот до ушей, и, запихивая в кошелек сдачу, шагнул ей навстречу.
Прошло еще несколько секунд, прежде чем до меня наконец дошло, что это – я сам.
Вам случалось внимательно рассматривать свои детские фотографии? Тогда вы знаете это ощущение: солнечный день с потрепанной карточки вдруг пронизывает вас теплом, и вы ясно вспоминаете и этот день, и это солнце, и старое пальтишко, – и все, что случилось потом, умещается в несколько сантиметров от вас до черно-белого прямоугольника, где весело скалится в объектив человек, которым вы были когда-то.
Взял билеты, оборачиваюсь, а она смотрит на меня и улыбается одними глазами. А глаза у нее знаете какие? Песочные, с крупинками янтаря – и когда она смотрит, кажется, что наступило лето; скорей бы укатить к черту на кулички, лежать на горячем песке у моря, и касаться друг друга, и падать в прохладную воду, и плыть рядышком…
Иногда я чувствую, что если сейчас же не поцелую ее, меня кондрашка хватит. Честное слово! А потом, никого и не было, только хмырь какой-то у телефона: главное, стоит и пялится – хоть бы трубку для приличия снял… Ну и смотри, думаю, дядя, завидуй, что тебе остается! И обнял ее еще крепче. А у нее щеки покраснели – симпатичная, сил нет! – и давай колотить мне кулачками в грудь – как фортепианными молоточками, ей-богу. «Да-да, – говорю, – войдите!», а она шепотом: «Вредина, ну вредина же!» – а у самой смешинки в глазах.
Я вспомнил этот день. Вспомнил фильм, на который мы тогда ходили, – ну конечно, он! Семьдесят третий год, конец первого курса, боже мой, сколько лет прошло! Семьдесят третий. Короткое замыкание, недосмотр небесного диспетчера – и вот они целуются, а я звоню жене и пялюсь на них, как старушка у подъезда.
Кино, потом бульвар, ее рука. «Родичи на даче…» – она сказала это, когда возвращались по Тверскому. Помню, как пересохло в горле, как мучительно долго тянулся поезд, и мы молчали, не разнимая рук. От метро до ее дома шли пешком, перешагивая сверкающие на солнце лужи, и сердце мое выпрыгивало из грудной клетки и кружило, как молодой сеттер, метров на десять впереди…
К столику, где над стаканами яблочного сока сидели парень и девушка, подошел человек.
– Можно к вам?
– Пожалуйста, – ответил парень и, напрягшись, бросил взгляд в сторону: столики вокруг пустовали.
– Спасибо.
Человек поставил свой стакан и сразу отглотнул чуть ли не половину. Парень и девушка переглянулись.