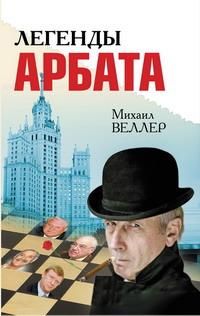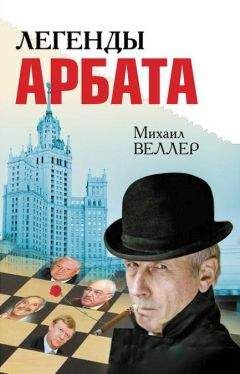Михаил Веллер - Забытая погремушка
Я понимаю, что вообще пионерская организация совсем не такая, что в других лагерях иначе, что просто это нашему отряду не повезло, всякое бывает, это нетипичный случай: конечно. Но вы сначала узнайте толком, как именно мне не повезло!
Итак, дежурю. Подмел веником пол, собрал мусор на совок, выкинул с крыльца в траву. Взял таз, принес от насоса воды. А тряпки нет. Напарник, он здоровее меня и поэтому командует, приказал: «Сходи к девкам, попроси тряпку».
Я так устроен, что если меня посылают, я иду. Меня всегда учили слушаться. А у девок крыльцо – с другой стороны барака, на их половину. Поднялся, постучал, оттуда крикнули:
– Да!
Я вошел, пару шагов сделал и спросил:
– У вас тряпка есть пол мыть?
Последние пару слов я произносил уже по инерции. Я осознавал, что я видел. А видел я прямо перед собой две голые большие круглые женские груди. Я их впервые в жизни видел. Увидел, наконец. Но совсем не в таком контексте, как грезил в страстных мечтах подростка, отличающегося нормальной подростковой гиперсексуальностью.
Вожатая, скрестив ноги по-турецки, сидела на кровати одной из девочек – спиной к перегородке, лицом к двери, то-есть ко мне. Она была в одних трусах. Или еще в чем-то. Это уже неважно, этого не было видно. А было только видно, что она до пояса голая (сверху).
В руках у нее был ее лифчик, иголка и нитка. Она его зашивала. Не выдержал, значит, нагрузок. Платили вожатым мало, время было такое, откуда у бедной женщины второй лифчик?…
В ответ на мой вопрос она подняла глаза и груди. То есть глаза она подняла, чтобы посмотреть, кто это вошел и спрашивает, а груди поднялись сами оттого, что она перестала склоняться над своим бывалым лифчиком и распрямилась.
У меня произошел стоп-кадр. Прекратились дыхание, пульс и время. Видимо, я открыл рот и выпучил глаза, и так застыл.
У нее была смугловатая кожа, округлые плечи и вообще тяжеловатое тело созревшей женщины, не девчонки, каштановые волосы на голове, карие глаза, пунцовые губы и белые зубы. И она раскрыла свои пунцовые губы и белые зубы, округлила свои карие глаза озорно, весело и нахально – и стала звонко, заливисто и неудержимо хохотать.
А я окаменел в столбняке, как жена Лота (или его племянник). Груди были незагорелые, но тоже смугловатые, с большими светло-оричневыми сосками, и эти соски стояли, как твердые изюмины. И чуть отвисали под собственной округлой тяжестью. А она хохотала!
А я чуть не упал. Я стремительно повернулся и выскочил в дверь. И как-то оказался на нашей половине.
– Ты чо? – спросил напарник, глядя.
– Ничо, – сказал я в сторону.
А за перегородкой вожатка только сейчас перестала хохотать. Заметьте – она было не одна, там еще двое девочек тоже уборку делали, и одна больная сидела.
– А тряпка где? – спросил он.
– Сам возьми, – грубо ответил я.
Он оценил решительную грубость моего тона и без споров пошел сам. А я стал вслушиваться.
Сцена повторилась до точности. Стук в дверь, вопрос: «У вас тряпка есть пол мыть?», секунда абсолютной тишины, удар заливистого хохота и выскакивающий топот.
Он все бежал обратно, а она все хохотала.
Теперь внимательно смотрел я. А красный и не глядя на меня вбежал он. Но я уже ничего не спросил. А он схватил веник и стал по второму разу неловко, но энергично мести чистый пол.
(Кстати о поле. Вот вам и подсознание по Фрейду, диктующее в литературном процессе выбор слов.)
Мы друг другу ничего не сказали, и никому ничего не сказали. И все трое делали вид, что ничего не было. Тем более что в столовой после обеда ко мне придрался Дудик из четвертого отряда, и я вдруг неожиданно для себя вызвал его на драку, все даже удивились, он сам удивился, он был на год старше и здоровее, а я был зол. Он хотел меня отбуцкать и разбил нос, но я пробил его под дых, а в школе мы учились бить по почкам, и драка окончилась вничью. Жить в лагере мне стало легче, социальный статус повысился, и сиськи отошли на второй план. Умение бить морду ценилось выше, чем даже хоть и вообще половая связь, которых у нас все равно не было.
Не тут-то было! Вечером после кино я шел в строю замыкающим, а вожатая пропустила всех мимо себя и пошла рядом, спросив, как мне понравился фильм. Потрепала по плечу, а потом как бы шутливо взяла под руку. И так взяла, что прижала мою руку к своему боку. И не просто к боку, а задрала, она-то ростом была выше, и так что прижала мою правую руку сбоку к своей левой груди. И вот я, как хармсов-ская кошка под воздушным шариком, наполовину иду по дорожке в темноте, а наполовину лечу в воздухе, ощущая тепло, округлость и плотность ее груди. А она еще спрашивает заботливым воспитательским голосом:
– Что это у тебя руки потеют? Ты не заболел?
А я хочу сказать: «Нет», а вместо этого слышу из себя:
– Ке-ке-ке…
А она засмеялась, притиснула мою руку так, что я сквозь ее платье и лифчик даже твердый сосок почувствовал, и пошла обратно вперед отряда. (А ведь лифчики в те времена, как должны помнить те женщины в Вашей редакции, которые постарше, были тогда толстые, стеганые, как боевой нагрудник под панцирем.)
А как-то иду я после дежурства в столовой один в отряд, а она навстречу. И вдруг смотрит и спрашивает:
– Что это ты так идешь? Ногу не натер? А трусы в шагу не режут?
Я чуть не упал. А она мне резинку поправляет. А у мальчика тут эрекция. Ничего такого, естественная реакция организма, но в таком возрасте этого стесняются. А она мне – р-раз! – и бедром туда прикоснулась. Я отскочил и споткнулся. А она округлила свои вишневые глаза и говорит строго:
– Ты что это, а?! За это не только из пионерского лагеря, за это из пионеров исключить могут!
И пошла. А я еле дошел. Как она сказала про исключение, у меня сразу все упало.
Так смена и кончилась. Всех приехали родители забирать, а за мной что-то задержались. Сижу я на крыльце последний рядом со своим чемоданчиком и читаю. Читать трудно становится, сумерки уже.
А в столовой еще свет и остатки шума. Там вожатые с воспитателями праздновали, и еще не все разошлись. И вот идет по дорожке между сосен оттуда наша, и доходит до меня. И пахнет от нее вином за три шага. Поскальзывается она на шишке и спрашивает:
– А ты еще не уехал? Вот и хорошо! Пойдем-ка, принесешь дрова в баню.
Баня у нас метров за двести в лесу, у берега реки, и мылись мы там раз в неделю. Дежурные мальчики носили дрова и воду, а мылись по два отряда в две смены: час девочкам, потом час мальчикам. А парилкой мы не пользовались. В ней парились вожатые и воспитатели после отбоя.
Тащусь я за ней в баню и думаю, что даже под конец мне не везет. Дрова им, скотам! Нажраться мало, еще и мыться подавай.
Пришли. Темно и никого. Зашли. Она в раздевалке свет включила. В мыльную заглянула. И дает мне ведро:
– Принеси-ка холодной.
Облил я сандали – дотащил воды, поднял в раздевалку. А дверь в мыльную открыта, и там света нет. И она кричит оттуда:
– Заноси сюда!
Я занес, поскользнулся в темноте, упал, ведро покатилось, звон, плеск, из глаз искры! А она меня поднимает подмышки:
– Не ушибся? Неловкий какой… Привыкли глаза к темноте, там окошки наверху маленькие – а она голая…
И стоит она, голая, между мной и дверью, и подмышки меня поддерживает – ну вплотную передо мной…
А я «Темные аллеи» уже читал, и «Яму» читал. Но тут такие аллеи, тут такая яма! Весь живот голый, и все бедра голые, и тот самый волосатый куст треугольный весь виден, темнеет, а кажется – светло, так хорошо все видно. И груди… но про них я уже писал.
А она говорит, спокойно так, прямо как будто невзаправду все это происходит:
– Давай, помоешься на дорожку, раздевайся. А я примерно в обмороке.
Раздела она меня мгновенно, кинула одежду на лавку, потащила к баку и облила теплой водой из ковшика. И сама облилась. И стала меня намыливать. И прикасается. И грудями прикасается, и бедрами, и животом. И треугольником своим прикасается. И хоть темно в бане, а совсем светло.
Стоит мой маленький часовой, а она опускает туда намыленную руку и начинает его поглаживать и подкачивать. А я дышу, как смертельно раненный, и мысль только одна: «Неужели?!…»
А она сжимает ласково так свой кулак и говорит:
– Ты смотри, какой уже хороший. Зачем же ему даром пропадать, да?
– Да, – идиотски говорю я.
Хватает она меня за руки, и начинает моими руками подбрасывать свои груди. И спрашивает:
– Правда хорошие?
А что может ребенок в такой ситуации ответить? Ребенок может только согласиться.
Педофилия – это особенный порок. Его коварство в том, что он может быть необыкновенно приятен. Я бы сказал, может довести до экстаза и даже до оргазма.
Одиннадцатилетний пионер был лишен возможности испытать оргазм. Чего нельзя сказать о пионервожатой.
Она положила мои руки себе на попу, и я поразился ее обширности. А она воркует откуда-то сверху, с придыханием, как помесь голубя с органом:
– Пощупай, мой мальчик, пощупай покрепче. Я говорю: