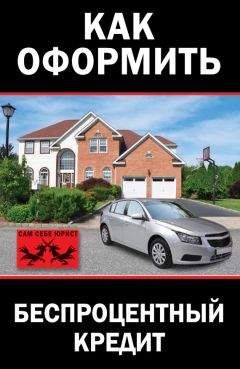Семен Нариньяни - Со спичкой вокруг солнца
Вот и теперь, придя в редакцию, Гугина мама сразу же потянулась за носовым платком. Мария Венедиктовна еще не сказала ни слова, а у всех нас, сидевших в комнате, уже защемило сердце.
«Нет, надо крепиться!» — решил я.
Но где там! Разве можно было оставаться холодным, когда рядом плакала женщина? А плакала она беззвучно и безропотно. И эти тихие слезы творили чудо. Из склочной, эгоистичной женщины они превращали Гугину маму в маленькую обиженную девочку. И вы готовы были тут же броситься в бой против ее обидчика.
Я крепился, а жалость между тем уже вела свою подрывную работу. Она рисовала передо мной жизнь этой маленькой сухонькой женщины, в центре которой был ее мальчик. Маме очень хотелось, чтобы этот мальчик был музыкантом.
— Вы посмотрите лучше на кисть, — говорила Гугина мама. — У моего мальчика пальцы Антона Рубинштейна.
Из-за этих гибких, длинных пальцев Гуге пришлось все свои детские годы провести в различных музыкальных кружках, Но маме и этого было мало: мама заставляла Гугу брать дополнительные уроки у приходящей учительницы, и успокоилась мама только тогда, когда устроила его в фортепьянный класс музыкальной школы. Несколько лет тихий и послушный сын, не любя музыки, учился в музыкальной школе. И вот, когда счастье казалось Гугиной маме таким близким, таким возможным, появился этот новый директор и напрямик сказал маме:
— Вы зря тешите себя иллюзиями. Ваш сын никогда не будет хорошим музыкантом.
Десять минут назад такая прямота казалась мне правильной, а вот теперь жалость заставила меня изменить свое мнение. Я тоже снял с рычажка телефонную трубку и, следуя дурному примеру всех прочих Гугиных ходатаев, стал просить Евгения Евгеньевича сменить гнев на милость и восстановить Гугу в школе.
— Хорошо, — совсем неожиданно сказал Евгений Евгеньевич, — я восстановлю только при условии, если вы повторите свою просьбу.
— Когда? Сейчас? — обрадовался я такому легкому разрешению вопроса.
— Нет, завтра, в двенадцать, у нас в школе.
— Все в порядке, — поспешил я успокоить Гугину маму. — Завтра ваш мальчик будет восстановлен.
Завтра, в двенадцать, когда я пришел в школу, там уже сидели все десять ходатаев. Оказывается, все десять были, как и я, приглашены в школу.
И все пришли — два доцента, два полковника, три медицинских работника, балерина, сотрудник Главсахара, детский писатель. Каждый был полон решимости не поддаваться ни на какие увещевания нового директора.
«Пусть директор и не пытается переубеждать нас своими речами, — думал каждый, — все равно мы будем требовать восстановления Гуги».
А новый директор, оказывается, и не собирался произносить речей. Он просто спросил:
— Кто из вас знаком с Гугой?
Мы все неловко переглянулись. Оказывается, никто,
— Тогда давайте познакомимся с ним, — сказал директор и крикнул в соседнюю комнату: — Гуга!
В класс вошел широкоплечий пятнадцатилетний парень. Он поклонился, даже не посмотрев на тех, кто примчался из-за него в школу по сигналу SOS, поднятому его мамой, и сел за рояль.
— «На тройке», — флегматично сказал он и опустил свои гибкие, длинные пальцы на клавиатуру.
А пальцы у него действительно были замечательные. Я невольно даже закрыл глаза, ожидая, как из-под этих пальцев польется знакомая музыка Чайковского и перенесет всех нас на зимнюю сельскую улицу в веселый день масленичных катаний на тройках. Но Гугины пальцы обманули мои ожидания. Они не воссоздали картины широкой русской масленицы и не донесли до нас ни мыслей, ни настроений великого композитора. Гуга играл холодно, равнодушно. Он даже не играл, он отрабатывал за роялем какой-то давно надоевший урок.
Директор школы неспроста устроил этот концерт. Мы жалели мать, а директор школы очень убедительно доказал нам, что жалеть следовало не мать, а сына, которого эта мать заставляла заниматься нелюбимым делом.
— Моцарт… Рахманинов… — говорил Гуга и продолжал играть без души, без вдохновения.
— Хватит, — сказал наконец, не выдержав, один из доцентов.
Гуга встал, поклонился и вышел. И в классе сразу наступило тягостное, неприятное молчание. Десять ходатаев сидели вокруг рояля, как десять напроказивших и наказанных школьников.
Само собой разумеется, что «завтра, в двенадцать» директор не восстановил Гугу в школе.
Директор встал и сказал ходатаям:
— Гуга — плохой музыкант, но очень неплохой юноша. И если вы действительно хотите помочь Гуге, то вам следует прежде всего серьезно поговорить с Гугиной мамой.
Достаточно было директору напомнить об этой женщине, как все ходатаи заспешили к выходу.
«Ну нет, с меня хватит!» — подумал и я. Однако случаю угодно было распорядиться по-своему.
Не успела наша редакционная машина тронуться от подъезда школы, как у нее заглох мотор. А так как машина была старенькая, а шофер новенький, только с курсов, то, как мы ни старались, наш мотор не желал заводиться.
— Искра пропала, — виновато сказал шофер. — Придется звонить в гараж — просить тягач.
— А по-моему, машина пойдет без тягача, — перебил шофера чей-то молодой, звонкий голос.
Я оглянулся. Вокруг нас, оказывается, уже собралось десятка два школьников. И ближе других к машине стоял Гуга.
— Много ты знаешь! — буркнул ему в ответ шофер.
— А чего же здесь знать? — спокойно сказал Гуга. — Это элементарно. Дело у вас не в искре, а в свечах. Дайте-ка ключ, — сказал он, поднимая капот машины.
И шофер подчинился этому твердому, уверенному голосу. Гуга передал какому-то мальчику свои ноты, засучил рукава и стал отвинчивать свечи.
— Правильно, — сказал он, — кольца у вас разработанные, а масла налито много, вот свечи и захлебываются.
Две свечи Гуга подчистил ножом, две заменил новыми. Тонкие, гибкие пальцы Гуги работали быстро, ловко.
Да, это был не тот флегматичный паренек, который полчаса назад сидел за роялем.
— А ну, заводи! — сказал Гуга шоферу, и мотор, к общему ликованию школьников, завелся.
Само собой разумеется, что теперь мне уже захотелось познакомиться с Гугой поближе, а так как нам было по пути, то я пригласил мальчика в машину и затеял с ним разговор о двигателях внутреннего сгорания. Гуга, оказывается, два года состоял членом Детского автомобильного клуба.
— Только вы, пожалуйста, не говорите об этом маме. Мама против, — просит Гуга.
И мы снова продолжаем разговор о двигателях внутреннего сгорания.
Мальчик образно объясняет, почему заглох наш мотор. Его руки рисуют в воздухе всю схему зажигания, глаза блестят.
— Нет, — тихо шепчет он, — ваш шофер не любит автомобиля.
— А ты любишь?
— Конечно!
— А музыку? Только давай говорить по-честному.
Гуга на минуту задумывается, а потом, видимо решившись, говорит:
— Вчера мне снилась нота «фа». Пришла, села над ухом и стучит, как дятел: «Фа… фа… фа…» Нет, музыка не по мне. На той неделе я пошел в автомеханическое ремесленное училище, хотел подать заявление, а там москвичам не предоставляют общежития.
— Почему же в ремесленное?
— А с чего же начинать, как не с ремесленного? Хороший специалист тот, который идет снизу вверх, тогда он любую гайку сумеет выточить и привернуть. Поработаю я в цехе, а потом можно и в техникум поступить или в институт — учиться на автоконструктора. У меня на этот счет целый план продуман.
— А рояль, значит, побоку?
— Нет, буду играть, но тогда, когда захочется, а не из-под палки. Мама этого не понимает. Я иногда думаю плюнуть на все и начать жить по своему плану, а прихожу домой и расслабляюсь. Жалко мне ее. Сын-музыкант — это мечта ее жизни.
Мне очень хочется помочь мальчику. Но помочь Гуге — это значит поссориться с его мамой. А, будь что будет!
И вот два дня подряд мы ходим вместе с будущим конструктором двигателей внутреннего сгорания по всяким учреждениям. Мы спорим, доказываем, и наконец на Гугином заявлении появляется долгожданная резолюция: «Принять с предоставлением общежития».
У Гуги в глазах сразу загораются веселые искры. А я смотрю на радостное, возбужденное лицо мальчика и думаю в это время о его маме.
Нет, родительские мечты не должны быть эгоистичны. Мама должна думать не о том, чего хочется ей, а о том, чего хочется ее ребенку, к чему у него есть способности.
Я знаю, завтра Гугина мама начнет бегать, плакать и жаловаться на меня, но тем не менее я не раскаиваюсь в том, что разлучил ее с сыном и помог ему перейти из музыкального училища в ремесленное.
1949
В КОМНАТЕ НАПРОТИВ
В жизни Анюты сегодня большой день. Девочке исполнилось шесть лет. В связи с таким событием мама привезла Анюту домой, вплела ей в косички два голубых банта и села с Анютой играть в «дочки-матери». Анюта очень любит играть с мамой, но такое счастье выпадает девочке не часто. Домой Анюта приезжает редко, только в гости, а весь год она живет у своих бабушек: с сентября по апрель у Жозефины Кузьминичны, на Арбате, а с апреля по сентябрь где-то под Серпуховом, у Прасковьи Петровны. Анюта так и говорит: