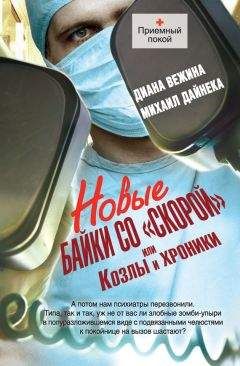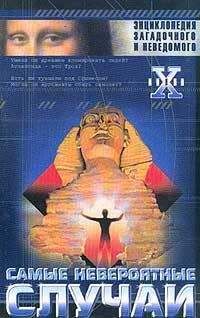Михаил Дайнека - Супермены в белых халатах, или Лучшие медицинские байки
Будто выпущенная из Давидовой пращи, крыса угодила на заставленный посудой стол, сшибла графин с водой. Графин весело разлетелся вдребезги, крыса привидением шмыгнула по столешнице, ничего больше не задев, брызнула сверху но, округлого Сеича, скатилась на пол и сгинула. Незряче выпучив наливающиеся кровавой поволокой глаза вослед исчезнувшей зверюге, словно сослепу сознавая нечто обычно милосердно сокрытое от очей смертных, Михельсон навалился грудью на шаткий стол, ткнул растопыренной пятерней туда, где только что была серая нечисть, пропахал ладонью битое стекло – и вот тут его прорвало.
Михельсон завопил. Это был достойный вопль – протяжный, проникновенный и скорбный и по-своему прекрасный, как пение провинциального еврейского кантора на похоронах ортодокса. Мировая скорбь известного народа до потрохов проняла близлежащего Сеича, он трепыхнулся, задев головой край стола, запечатанные уста его отверзлись, и приснившийся ему петух возопил, аки пасхальный ангел. Забили кремлевские куранты и бронзовые колокола, переплавленные Петром I на пушки. Зимородок, заслышав во сне хоровое пение сирен, зачарованно врезал по тормозам, попал ногой в надломленную ножку стола, и посуда лавиною грохнула об пол. Наверху в диспетчерской надрывался телефон, по коридору и вниз по лестнице топотали, матерясь напуганно, зло, угрожающе.
Сбежались.
– ………………………………………!! – Зимородок выругался, как штатная матерщинница Вежина, а местами еще хлестче: – ……………………………!!! – выразился заядлый ездюк Зимородок, называя вещи своими именами, запустил собачьей ушанкой в воющего Михельсона, рикошетом зацепил грозного Бублика, а Мироныч озадаченно спросил:
– Что случилось? Стряслось что-нибудь? – Заведующий аккуратно обогнул Антона, с опаской поглядывая на очумевших водителей, а Михельсон всхлипнул:
– К-к-крыса… – Миха держал над разгромленным столом окровавленную руку, зеленел и терял сознание.
– К-к-крыса? – переспросил заспанный шеф, подозрительно покосился на перебитую посуду, чуть посторонился, давая протиснуться Киракозову с чемоданом.
– К-к-крыса… – подтвердил Михельсон, по-обморочному мягко оседая на свою коечку.
– Подожди-ка, подожди, – Мироныч сразу же стал ласков, но настойчив, как психиатр с первичным пациентом, – ты не спеши, не волнуйся, ты толком всё объясни… Какая крыса? Обныкновенная? – попробовал он разобраться, а Киракозов со вздохом принялся обрабатывать распоротую кисть.
– Обныкновенная, – послушно согласился Миха заплетающимся языком, – вот эта, – показал он здоровой рукой на пол, откуда на них, ни мало не беспокоясь, таращилась серая зверюга. – Или же не эта? – почему-то усомнился ездолог Михельсон, а ездец Сеич с другой стороны стола снова кукарекнул, но на этот раз как-то нерешительно.
– Так эта же или другая? – торможенно поинтересовался заведующий, в свою очередь разглядывая невозможное создание, а доктор Бублик не без оснований диагностировал:
– Идиоты! – припечатал Антон, швырнув ушанку в крысу, но попав в Зимородка, который немедленно натянул ее, отвернулся к стене и заснул, как будто не просыпался.
– Кстати, – на автопилоте повела осовелая Вежина, – когда я подрабатывала… – Вдохновенный зевок и втиснувшаяся в «кучерскую» Тамара Петровна прервали дежурный зачин.
– Дина, там… – начала диспетчерствующая царица Тамара. – Ой! – заметила она на полу наглое животное. – Надо же, какая крупная… Беременная, наверное, вскорости разродиться должна, – предположила старшая сестра из бывших акушерок и вернулась к делу: – Дина, там козел Комиссаров опять дуркует, твоя очередь ехать, – передала она сигнальный талон, и тут недобуженная доктор Вежина не постеснялась.
– ……………………………………………ох как я хочу, чтобы сдох, он наконец по-хорошему! – гася зевок, без знаков препинания выдала неиссякаемая Диана.
И не только здесь сказанула, но и потом, на вызове, догружая хроника Комиссарова дежурным аминазином, в раздражении процедила она сквозь зубы нечто подобное. А в ответ глухой на оба уха Модест Матвеевич пожаловался ясным голосом: «Так ведь и мне, доченька, мне самому ужо ох как помереть хочется!» – так он это произнес, что доктор Вежина на полчаса полностью проснулась.
Вежина уехала, скомканно пожелав одинокому старику спокойной ночи, а беспризорный Комиссаров засыпать принялся. Задремывает дряхлый Модест Матвеевич и родничок с живой водой видит. А из родничка прозрачной струйкой ручеек животворящий течет. Журчит ручей ласково и тихо, убаюкивает, набухает, поднимается. Мутная водица выходит из берегов, заливает всё вокруг, а кругом на незатопленных пока старых пнях зайцы сидят. Смотрят зайки серенькие на пожилого человека Комиссарова, а он на судно поспешает – и не на какую-то там лодчонку-плоскодонку, как у народного дедушки Мазая из сказочки с цветными картинками, а на самый большой, самый-самый белый пароход, который не корабль, а песня, и даже песня песней. Ступил он на трап под музыку, поднялся на палубу и ну раскачиваться в такт, а корабль – а кораблик оказался бумажным. Размокло игрушечное суденышко из газеты, из вчерашней «Правды», накренилось оно и пошло ко дну вместе с Модестом Матвеевичем. Тонет социально незащищенный дедушка, захлебывается, ручками-ножками сучит, а зайцы вокруг жуткие прокуренные зубы угрожающе скалят, а водичка тепленькая-тепленькая…
Заснул старик Комиссаров, спит он и писает.
И на базе народ более-менее угомонился, кто мог – опять приспнул, а Зимородок так толком и не пробуждался.
В разгромленной водительской, сиречь разоренной «кучерской», только он один остался: с перепугу травмированный Михельсон закрылся в машине, завелся, печку включил, свет зажег в кабине. Сей Сеич хотел было тоже в «рафике» поселиться, но, рассудив, что бензин хоть и не овес, но всё равно незачем его сперва без толку жечь, а после кровные свои на него же тратить, порешил в просторном «морге» обосноваться. Ему-то что, как известно, круглый Сеич в «морге» точно не замерзнет, а вот квадратный Бублик оттуда все-таки сбежал – сверзился со своего излюбленного секционного стола и ко всем прочим в переполненную диспетчерскую греться подался. Вот и пришлось Вежиной по возвращении на свободный кусочек между ним и стройным Родионом Романычем Киракозовым неуклюже втискиваться.
Влезла Диана, одеяльцем и ватником укрылась, намакияженные очеса смежила… В диспетчерской скорее душно, чем тепло, хотя и электрический радиатор без перерыва работает, и внеочередная ростепель за стенами шпарит в полный рост. Над свальным лекарским лежбищем маятник мерно, чинно, как парадный часовой, расхаживает, за окном запотевшим капель шуршит: тик-кап-тик-кап получается, тик-кап-хрр-тык-кап-хрррр-тык… Это так Мироныч на половине диспетчерского дивана захрапеть пытается: посипит, похрюкает, но только он храп должным образом в ритмический рисунок вплетает – раз – его царица Тамара локтем под ребра со своей половины дивана, два – его от души без всяческого чинопочитания. А шеф опять посипит, губами подвигает, почмокает и затыкается ненадолго, но зато в этот промежуток Киракозов солирует: как только заведующий притихнет, так сразу Родион Романыч по соседям разметаться норовит и ногою нервно дрыжет, а на тумбочке в изголовье у него стакан с графином на подносе мелким дребезгом лязгают, как при землетрясении в кинофильме.
Оно и понятно, так как жуть жуткая фельдшера во сне на манер захватывающего ужастика изводит. Жутчайшая жуть, жутче не бывает: видится фельдшеру Киракозову, что он – это не он, а заведующий Фишман, и так ему страшно, ну так кошмарно, что всё как наяву и со всеми подробностями.
Вот он встает, ноги в штопаных носках на пол опускает, кроссовки «адидас» из Гонконга под диваном ищет. Минут через пять находит гонконговские «адидасы» польского производства, еще через десять минут распутывает связанные шнурки, затем на всякий случай встряхивает интернациональную обувку. И правильно делает, стреляного воробья на мякине не проведешь – пара игральных костей оттуда высыпается. А он зачем-то точки на них считает, выходит у него тринадцать, пересчитывает он – опять невозможные тринадцать очков получаются. Тогда он снова кости в обувку сует, встряхивает, бросает – кругом тринадцать, никак иначе в пятницу не выходит… Фишман обреченно обувается, пятерней начесывает волосы на плешку, заведомо впустую шарит на вешалке, с тяжким вздохом идет в «морг», из холодильника достает свой ватник, из морозилки фонендоскоп тащит…
Один фонендоскоп он тянет, за ним другой, следом третий тянет-потянет, будто сосисочную связку изо всех сил вытягивает, а она сама собой наружу прет. Оборачивается озадаченный Фишман, а за его сутулой спиной матерый дог размером с ездовую лошадь сидит и гирлянду эту сосисочную вместе с целлофаном пожирает. И написано у него на суровой натруженной морде красными крестами и полумесяцами, что никакой он вовсе не пес, а самый что ни на есть фельдшер. «И это правильно, – заведующий с грустью и гордостью думает, – все нынче фельдшера такие, все они чуть что зубы скалят и морду утюгом делают, потому как за ихнюю зарплату не всякая собака служить будет. Нет, не всякая, а исключительно породистая, токмо самых благородных кровей, как сам я когда-то…»