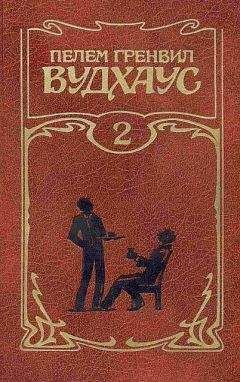Вся правда о Муллинерах (сборник) (СИ) - Вудхауз Пэлем Грэнвилл
Единственной новинкой, которую он увидел, был воздвигнутый на треугольном газоне перед библиотекой гранитный пьедестал, а на нем — что-то бесформенное, укутанное большой простыней, очевидно — статуя лорда Хемела Хемпстедского, открыть которую он прибыл.
И постепенно, по мере того как проходили часы его визита, им исподволь начало овладевать чувство, не поддававшееся анализу.
Сначала он принял его за естественную сентиментальность. Но разве в таком случае этому чувству не следовало быть много приятнее? А владевшие им эмоции отнюдь не все проливали бальзам на его душу. Например, завернув за угол, он увидел перед собой капитана футбольной команды во всей славе его, и на него нахлынула такая ужасная смесь стыда и страха, что его ноги, облаченные в епископские гетры, затряслись, подобно желе. Капитан футбольной команды почтительно снял головной убор, и стыд со страхом исчезли столь же быстро, как и возникли, однако епископ успел установить их источник. Именно эти чувства он испытывал сорок с лишним лет назад, когда, тихонько удрав с футбольной тренировки, сталкивался с кем-нибудь из власть имущих.
Епископ недоумевал. Словно некая фея прикоснулась к нему волшебной палочкой, смела прошедшие годы и превратила его вновь в мальчика, перемазанного чернилами. День ото дня иллюзия эта крепла, чему немало способствовало постоянное пребывание в обществе преподобного Тревора Энтуисла. Ибо в харчестерские дни юный Кошкодав Энтуисл был неразлучным другом епископа, и с тех пор его внешность, казалось, не претерпела ни малейших изменений. Епископ испытал пренеприятнейший шок, когда на третье утро своего визита, войдя в кабинет директора, увидел, что Энтуисл восседает в директорском кресле в директорской шапочке и мантии. Ему почудилось, что юный Кошкодав, поддавшись извращенному чувству юмора, подвергнул себя жутчайшему риску. Что, если Старик войдет и застукает его?!
Так что день открытия статуи епископ встретил с облегчением.
Впрочем, сама церемония вызвала у него скуку и раздражение. В школьные дни лорд Хемел Хемпстедский не внушал ему дружеских чувств, и необходимость восхвалять Жирнягу в звучных периодах еще усиливала его досаду.
Вдобавок в самом начале церемонии у него вдруг случился острый припадок сценического страха. Он думал только о том, каким идиотом выглядит, стоя перед всеми этими людьми и ораторствуя. Ему чудилось, что вот-вот кто-нибудь из старшеклассников выйдет вперед, отвесит ему подзатыльник и посоветует не изображать из себя расшалившегося поросенка.
Однако подобной катастрофы не произошло. Напротив, его речь имела заметный успех.
— Дорогой епископ, — сказал дряхлый генерал Кровопускинг, председатель попечительского совета, тряся его руку по завершении церемонии, — ваше великолепнейшее красноречие посрамило мое скромное дерзание, посрамило его, посрамило. Вы были несравненны.
— Большое спасибо, — промямлил епископ, краснея и переминаясь с ноги на ногу.
Усталость, навалившаяся на епископа в результате этой длительной церемонии, только усиливалась с течением дня. И после обеда в кабинете директора он стал жертвой страшной головной боли.
Преподобный Тревор Энтуисл тоже выглядел усталым.
— Такие церемонии несколько утомительны, епископ, — сказал он, подавляя зевок.
— Весьма, директор.
— Даже портвейн восемьдесят седьмого года не оказал желанного действия.
— Воистину так! Но может быть, — добавил епископ, на которого снизошло озарение, — преодолеть упадок сил нам поможет капелька «Взбодрителя». Некое тонизирующее средство, которое имеет обыкновение принимать мой секретарь. И ему оно, бесспорно, идет на пользу. Более живого, кипящего энергией молодого человека мне видеть не приходилось. Не попросить ли вашего дворецкого подняться к нему в спальню и одолжить бутылочку? Я уверен, он с радостью поделится с нами.
— Как скажете.
Дворецкий вернулся от Августина с бутылкой, наполовину полной густой темной жидкости. Епископ задумчиво на нее поглядел.
— Не вижу никаких указаний касательно величины рекомендуемой дозы, — сказал он. — Однако мне не хотелось бы снова беспокоить вашего дворецкого, который, несомненно, уже вернулся к себе и вновь приготовился вкусить заслуженный отдых после дня, отмеченного особенными трудами и хлопотами. Не положиться ли нам на собственное суждение?
— Разумеется. Вкус очень противный?
Епископ осторожно лизнул пробку.
— Нет. Я не назвал бы его противным. Вкус, хотя совершенно особый, ярко выраженный и даже острый, вместе с тем достаточно приятен.
— Ну, так выпьем по рюмочке.
Епископ наполнил две пузатые рюмки, предназначенные для портвейна, и они сосредоточенно отхлебнули раза два.
— Недурен, — сказал епископ.
— Очень недурен, — сказал директор школы.
— И по телу разливается блаженное тепло.
— Весьма и весьма.
— Еще немножко, директор?
— Нет, благодарю вас.
— А все-таки?
— Ну, самую капельку, епископ, если уж вы настаиваете.
— А недурен, — сказал епископ.
— Очень недурен, — сказал директор школы.
Так как вам известно первое знакомство Августина с «Взбодрителем», вы, конечно, помните, что мой брат Уилфред создал его с целью снабдить индийских магараджей снадобьем, которое помогло бы их слонам сохранять небрежное хладнокровие при встрече с тигром в джунглях, и в качестве средней дозы для взрослого слона он рекомендовал столовую ложку с утренней порцией отрубей. А потому не удивительно, что, выпив по две рюмки на каждого, епископ и директор ощутили некоторые перемены в своем мировосприятии.
Усталость исчезла, а с ней и недавний упадок духа. Оба испытывали необычайный прилив жизнерадостности, и странная иллюзия полного омоложения, которая преследовала епископа с его первого дня в Харчестере, неизмеримо усилилась. Он чувствовал себя пятнадцатилетним сорвиголовой.
— Эй, Кошкодав, где спит твой дворецкий? — спросил он после глубокомысленной паузы.
— Не знаю. А что?
— Да просто я подумал, как было бы здорово пойти и укрепить над его дверью кувшин с водой.
Глаза директора заблестели.
— Еще как здорово!
Некоторое время они размышляли, потом директор испустил басистый смешок.
— Чего ты хихикаешь? — осведомился епископ.
— Да просто вспомнил, каким последним ослом ты выглядел сегодня, когда порол чушь про Жирнягу.
Чело епископа омрачилось, несмотря на превосходное расположение духа.
— А каково мне было произносить панегирик — да, да, гнуснейший панегирик — тому, кто, как мы оба знаем, был подлюгой первой величины. С какой это стати Жирняге воздвигают статуи?
— Ну, полагаю, он как-никак строитель Империи, — сказал директор, человек справедливый.
— Совсем в его духе, — пробурчал епископ. — Всегда лез вперед. Если я с кем не желал иметь дела, так это с Жирнягой.
— И я, — согласился директор. — А смех у него был премерзкий — точно клей лили из кувшина.
— И обжора, если помнишь. Его сосед по дортуару рассказывал мне, что как-то он съел три ломтя хлеба, густо намазанные коричневым гуталином, после того как умял банку мясных консервов.
— Между нами говоря, я всегда подозревал, что он лямзил булочки в школьной лавке. Не хочу выдвигать поспешные обвинения, не подкрепленные неопровержимыми уликами, однако мне всегда казалось крайне странным, что в самые тяжелые недели семестра, когда у всех было туго с деньгами, никто ни разу не видел Жирнягу без булочки.
— Кошкодав, — сказал епископ, — я расскажу тебе про Жирнягу то, что не стало достоянием гласности. В финальной встрече между моим отделением и его на первенство школы в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году он во время борьбы за мяч преднамеренно ударил меня бутсой по голени.
— Не может быть!
— Но было.
— Только подумать!
— Против простого пинка в голень, — холодно продолжал епископ, — никто возражать не станет. Обычное я — тебе, ты — мне, неотъемлемое от нормального функционирования общества. Но когда подлюга умышленно замахивается и бьет, поставив целью свалить тебя, это уже слишком!