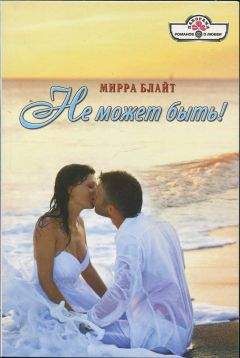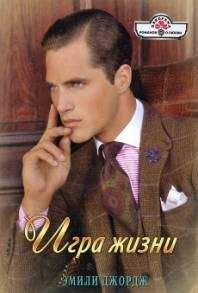Геннадий Емельянов - Арабская стенка
Аким поначалу не разобрался, о чем идет речь — он еще до торжества успел накоротке хватить пару стаканов вина в буфете — но когда же до него дошла сквозь легкий шум в голове суть происходящего, он почувствовал, что уши его горят.
Ваську Иванова силой сажали на место, но он опять вставал и с пьяной настойчивостью желал закончить свое выступление. Иванов каялся в том, что тоже грешен: общественность поручила ему вытянуть Акимку Бублика во что бы то ни стало, он и тянул его все пять лет без перерыва. А зачем, спрашивается, тянул? И кого мы все вместе обманывали? В конечном счете, себя и государство. Обманули, а дальше?
Бублик, оскорбленный до глубины души, встал и, больно задевая колени сидящих в ресторанном зале, стал пробираться к выходу, надеясь втайне, что сейчас ему загородят дорогу, обнимут коллективом и утешат, но его не задержали и уговаривали больше для вида; и многие почувствовали себя спокойней, когда он ушел, придерживая рукой твердые корочки диплома, спрятанного во внутренний карман пиджака. Настроение было праздничное, и никому не хотелось мучиться угрызениями совести.
В вестибюле ресторана швейцар с желтыми галунами на штанах, породистый и при усах, спросил участливо:
— Заболел, сынок?
— Голова что-то… — ответил Аким и покашлял в кулак, раздувая щеки с выражением крайней усталости.
— Учеба, она легко не дается, — сказал швейцар, перетаптываясь у широких парадных дверей. — От таких нагрузок свихнуться можно — были случаи. Но теперь отдохнешь, сынок. Высшее образование — это ведь счастье.
Аким сунул швейцару три рубля в благодарность за сочувствие и решительно шагнул на улицу.
Ночью подморозило, лужи покрыл ледок, матовый по краям и черный в самой середке. Льдины напоминали морские раковины, разбросанные на пустыре за школой. Земля лениво дымилась оттаивая. Дома впереди качались и плыли в мареве, будто пароходы по утренней реке. Воздух был ядрен, резок и шибал в нос, как свежий квас.
Аким Бублик пересекал пустырь, направляясь к своему гаражу — к железной и неаккуратно сваренной кибитке. Вчера Шурочка дозвонилась до Наталь Кирилловны Быковой, и та посулилась нажать на мужа, чтобы муж, в свою очередь, нажал на рыжего Зорина насчет арабской стенки. Наталь Кирилловна советовала не прозевать момент: гарнитур, что ни говори, классный и охотников на него — море. Дознаются широкие круги насчет арабского поступления, от желающих отбоя не будет, и есть в городе люди поавторитетней того же Быкова и того же Зорина, тогда Бубликам отрежется перспектива. Встревоженная Шурочка прибежала на кухню и села напротив Акима Никифоровича, оголив белые статные ноги.
— Завтра надо ехать! — заявила Шурочка и прикрыла халатом свои ноги, слегка обиженная тем, что Аким смотрел в окошко, а не на нее.
— Куда это ехать? — супруг перестал жевать, но от темного окошка взора своего не оторвал.
— К свекру на дачу.
— Отец разве уже на даче?
— Ну ты прямо будто не здесь живешь! Он еще в феврале туда умотал.
— Что там зимой делать?
— Дела по хозяйству всегда найдутся. У него телевизор, печка газовая, книги, он не скучает, не то, что ты — бездельник!
— В ухо дать? — равнодушно предложил Бублик и опять отвернулся к окошку: он хотел покоя, потому что вынашивал план мести Ваське Иванову, встреча с которым колыхнула старое.
— Мне бы налил! — упрекнула Шурочка почти ласково. — Сам хлещет, а мне даже не предложит капельку.
— Пей, жалко, что ли.
Шурочка налила себе в стакан водки и выпила как заправский мужик — разом, запрокинув голову, — и сладила себе бутерброд с сыром. Шурочка давно разгадала одну особенность мужа: он всегда глухо восставал против ее начинаний. Это молчаливое противоборство ее возмущало, как, впрочем, и многое другое. Шурочка давно поняла, что с женитьбой ей не повезло, она беспрестанно корила себя за то, что не поинтересовалась, когда надо, с кем связывает судьбу; ее, выросшую в простой семье (отец-слесарь, мать-уборщица) заворожил в перспективе диплом инженера и богатые костюмы Бублика, свел с ума красный мотоцикл «Ява», на котором подкатывал к галантерейному киоску, где она торговала мылом и бритвенными лезвиями, шикарный ухажер. Губы Акима Бублика всегда сочно блестели, будто он только что отобедал, со щек не сходил нежный румянец. Это было счастливое время в ожидании еще более счастливых времен. Разочарование пришла не сразу, но оно пришло, когда на руках были двойняшки — Боря с Леней — и путь назад отрезало. Но Шурочка умела скрашивать свое горемычное житье. Она многое умела!
— Значит, завтра. Да пораньше.
— Куда?
— К отцу твоему на дачу — денег клянчить. Тысячу двести.
— Почему это тысячу двести?
— Двести на всякий случай: совать ведь кому-нибудь придется, даром никто не расстарается, первый день живешь?
Бублик заметил, что в поллитровке сильно поубавилось, и поторопился налить себе. Спросил с хмуростью:
— Может, у кого другого подзанять?
Шурочка шумно всплеснула руками:
— Давно знаю, что ты дурак, а привыкнуть к тому все не могу. Как отдавать будем, о том ты помнишь? У тебя оклад сто восемьдесят, и без премий ты со своим Быковым сидишь уже полгода.
— Быков тут ни при чем.
— Да мои сто шестьдесят. Холодильник «Бирюса» в кредит взяли? — Шурочка, гневно сузив глаза, начала загибать пальцы. — В кредит. Тахту румынскую в кредит взяли? В кредит. За хрусталь должны? Должны! Ковер опять в кредит. Хорошо это, что я в магазине работаю, кто бы тебе эти кредиты оформлял? Никто! Льва Толстого, писателя, в двадцати двух томах кто выписал? Я! Словарь писателя Даля кто выписал? Я!
— А на хрена нам этот Даль?
— Затем, что Быковы выписали! Наталь Кирилловна велела, она женщина образованная и зря не посоветует.
— Читать некогда…
— Бока на диване пролеживать тебе есть когда, читать тебе времени все не выпадает… Дети, может, читать будут и умней нас с тобой вырастут, вот что. Нынче, Наталь Кирилловна говорит, шикарное приложение к «Огоньку» ожидается, тоже подписаться надо — мы разве хуже других? Опять деньги.
— Не хуже других, — сказал Аким с равнодушием и прицелился на бутылку: по его прикидке граммов двести еще оставалось — как раз хватит, чтобы поставить точку.
— Ты бы не пил больше, — посоветовала Шурочка вполне мирно. — Завтра ж тебе машину вести.
Бублик громко задышал носом и ничего не ответил, выказывая тем самым твердое свое намерение не отступить от цели. Шурочка зябко поводила плечами, запахнула халат на обширной груди и загорюнилась, глядя в темный угол. Она думала о том, что не живет на этой земле, а вроде отбывает срок наказания. И никакой отрадности впереди. У людей как-то все легко получается, у тех же Быковых, например. Захотели стенку купить — купили безо всякой натуги. За границу каждый год катают в круизы. Парень у них, Быкову не родной, учится на круглые пятерки, мусор выносит без ругани, тарелки моет, штаны себе гладит, не то, что Боря с Леней — шалопаи. Не везет, не выпадают козыри.
— Где ребятишки? — спросил Аким, давясь капустой.
— У матери твоей. Завтра возьмем их — хоть свежим воздухом подышат.
— Не возражаю.
Красный «Запорожец» катил по закраинным улицам большого города, мимо фабрик, особняков, заросших деревьями, мимо пустырей, где были разложены всякие стройматериалы. Кое-где стояли башенные краны. Шурочка, развалясь на переднем сиденье, мешала переключать скорости, и Аким несколько раз шибко задевал кулаком ее колени. Сзади шебутились Боря и Леня — двойняшки, остроносые и сероглазые, в одинаковых клетчатых пальтишках. Пацаны дышали в затылок отцу, тыкали пальцами по сторонам, дивясь переменам, происшедшим в городе с тех пор, когда они в последний раз ездили к деду на дачу. Они вспоминали, когда же ездили в последний раз? Боря говорил, что осенью ездили, Леня же говорил — весной. Боря говорил, что ездили просить денег на тахту, Леня точно помнил, что мать просила грошей-тугриков на ковер, который теперь висит у них в зале. Один помнил: дед дал ведро свежих помидоров, второй утверждал, что соленых. Если, значит, свежих дал, то была осень, если соленых — то весна была. Спор, как и положено, закончился потасовкой, и Боря поцарапал до крови ухо Лене. Или наоборот? Аким Бублик до сих пор плохо различал близнецов, к стыду своему. Он оправдывал себя тем, что редко видит детей дома.
— Как учеба? — поинтересовался отец и покашлял с солидностью. — Двоек много принесли?
— У них дневники незаполненные, — ответила за детей Шурочка. — Совсем их старуха разбаловала.
— Почему же это дневники незаполненные?
— Забыли! — сказали дети хором и опять пустились в спор: тахта румынская или ковер, свежие помидоры или соленые?
Подъезжали к будке ГАИ, монументальной, кирпичной, и с окнами на четыре стороны света в рост человека. Универмаг настоящий, туда бы, за стекла-то, манекены поставить, женщин в нижнем белье, веселая была бы витрина, но за стеклом маячила красная фуражка милиционера. Бублик сбавил газ и, можно сказать, прокрался мимо поста с потной спиной: остановит гражданин милиционер, сойдет с колокольни своей, заставит подышать в колбочку: тогда — дохлое дело, вчерашняя поллитровка даст о себе знать сразу! Слава богу, пронесло. Сейчас бугорок, за ним — трамвайное кольцо, еще километров пять асфальта, и дальше уж пойдет гравийка. Аким Никифорович успокоился и начал думать о том, что бы такое сказать назидательное детям своим. И сказал, качая головой: