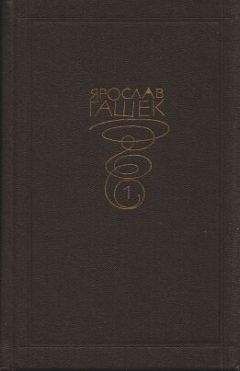Михаил Башкиров - Юность Остапа, или Тернистый путь к двенадцати стульям
Остап сосредотачивался.
В шикарной белой чалме и полупрозрачных вышитых шальварах он покорял сердца и умы, жаждущие откровений. А голос полный затаенной страсти, тоски по утраченной невинности, не по годам житейско-мудрый, с философской начинкой.
И никто, поверьте, никто не ушел разочарованным, никто не обманулся в своих ожиданиях, хотя мы строго соблюдали правило — только один вопрос и один ответ.
Член неутомимо и бойко вращался, замечательно подергиваясь по собственной инициативе.
Клиент торопливо записывал три буквы, над которыми произошло проявление жуткого духа.
Остап толковал.
За вечер удавалось провести до десяти сеансов.
Бендер поражал меня способностью на одни и те же банальные вопросы давать глубокие, сокровенные, бьющие в точку, ответы.
Член гипнотизирует сидящего напротив.
— Можно спрашивать? — шепот женщины средних лет пронизан страхом грядущего.
— Пусть как следует раскрутится. Проявление духа начинается в переходной обратной фазе, при проявлении явственных признаков усталости и раздражения.
— Можно?
— Помните, дух прореагирует только один раз, второй вопрос его спугнет и ответ будет безнадежно испорчен.
— Да.
— О революциях, столыпинской реформе, государственной думе и прочих ерундистиках ни — слова. Дух этого не переносит.
— Да. Да.
— И засекайте момент истины… Смотрите, первые признаки утомления… Спрашивайте же! Скорей!
— Я хочу… Хочу…
— Смелее, здесь полный интим и конфиденциальность.
— Я хочу знать, не изменяет ли мне мой Козлик?
— Ждите ответа.
— «М»! Вы видели, он дернулся над «М».
— Внимательней.
— «Л»!
— Осталась последняя буква.
— Он не хочет больше показывать, не хочет!
— Терпение.
— «О»! Наконец-то. «О»!
— Надеюсь, речь духа вам понятна?
— Не очень.
— Он доверил мне огласить сие таинство.
— «М» — наверное, «милый»…
— Я сказал. Внимайте!
— Да. Да.
— «Мойте рыло одеколоном». Царь всея Руси Иоанн Васильевич Грозный, собственной персоной.
— Но простите, молодой человек, разве в те времена знали одеколон?
— Чем же, по вашему, царь освежался после бритья?
— Но по-моему, у него как известно с картины Репина была борода.
— Я же не утверждал, что Иоанн Васильевич брил именно себя. Схватит, сердешный, топорик поострей и по щечкам, по щечкам, то псковским, то новгородским, то татарским… А после тщательного бритья, как водится, чарку одеколона, без закуси, в дружной компании опричников.
— Значит, Козлик изменяет?
— Увы, член лгать не приучен.
— Ну, я ему, побрею кое-что!..
Потрескивают свечи.
Остап утирает вафельным полотенцем трудовой предательский пот, орошающий лик пророка.
Я впускаю следующего.
Мелкий служащий, среднеоплачиваемой категории. Нервно подергивает узкие негусарские усики.
— Почему мне надоела сестра жены?
Член не скупясь выдает характеристику свояченице.
«Р», «Н», «В».
Остап вдохновенно:
— М-да, м-да, весьма тревожный смысл.
— Не жалейте подлеца.
— Очень тревожный смысл.
— Не томите, умоляю… Приму истину, как бы горька она не была.
— Разбилась…
— О, боже!
— Разбилась ночная ваза!
— Вдребезги?
— На мелкие осколки.
— Фаянсовая?
— Не хрустальная же.
— С синими цветочками и трещинкой на крышке?
— И с цветочками, и с трещинкой.
— Это ступенька на лестнице виновата, я предупреждал неоднократно, это ступенька.
— Да, процедура выноса закончилась печально.
— Но я же хотел попростецки, так сказать, по родственному…
Остап меняет фиолетовую безрукавку на желтую.
Остап торопливо выпивает стакан крепкого чаю с лимоном (три ложки сахара и ломтик в палец толщиной).
Остап поправляет царский член — бечевка издает струнный звук.
Толстая хохотушка, едва сдерживая распирающий ее смех, все никак не может обратиться к вращающемуся в экстазе духу с судьбоносным вопросом.
Мы терпеливы.
— Ой, батюшки, прямо и не знаю — к кому прислониться на закате днев, к повару из хвранцузского ресторану али к щвейцару, с золотыми галунами?
Заканчивает вопрос прысканьем в ладошки.
Невозмутимый член выдает разборчивой невестушке.
«К», «Л», «С».
— Касторка — лучшее слабительное, — выпаливает Остап без раздумий.
— Ой, — заходится в смехе толстуха, — Ой… Ой…
Я протягиваю стакан с холодной водой (относительно) приготовленный для истерик и трансов.
Она фыркает, разбрызгивает воду.
Я начинаю подпирать ее к выходу.
— Швейцар-то мне милее краснорожего! — кричит она на прощание. — Милее!
Удовлетворенную сменяет смущающийся интеллигент.
— С точки зрения формальной логики, прослеживается дичайшая закономерность… Утром, извините, расцветаю по всем физиологическим и гигиеническим канонам, а вот с вечера, извините, вяленький и нет средства для приведения в состояние, извините, коитуса… Вот в чем вопрос?
Интеллигент долго, пристально, с завистью созерцает членовращение и уже в затухающей фазе едва наскребает три буквы — и все, как специально «П».
— П-п-е-е-е-гас, — произносит Остап напевно. — Пырнул поэ-э-э-та!
— Извините, вы сказали — пырнул?
— Пырнул! — голос Остап обрел нужную степень наглости и твердости, которых интеллигенты не переваривают.
— Пегас?
— Самый настоящий. С крыльями и хвостом.
— Извините, а чем пырнул?
— Разумеется, копытом.
— Но насколько я в курсе, копытом ля-га-ют-ся!
— Лошади, кобылы, мерины, стригунки, мустанги, одры, кони и пони, как установлено науками, производят болевое, защитное, агрессивное действие вышеназванным роговым наростом, а вот Пегас, источивший до остроты средневекового кинжала вдохновенные конечности о поэтический гранит неприступного Парнаса, — совсем другая масть.
— Убедили, убедили…
— Судя по вашей обиде за трудягу-Пегаса, вам неоднократно приходилось его седлать?
— Вот именно… Вы открыли мне глаза… Как же я упустил первопричину ежевечернего фиаско… Она же лежит на поверхности… Слепец! Именно ПЕГАС ПЫРНУЛ ПОЭТА!
— Стихотворством балуетесь?
— Регулярно.
— Лирикой?
— Да нет, все больше опусы гражданского звучания.
— Понятно… Пегасом можешь ты не быть, а жеребцом всегда обязан!
— Какое микроскопическое попадание… Я бы дня через три снова бы заглянул, извините, для углубления вопроса, не возражаете?
— В порядке очереди!
Ледяной тон Остапа добил сдавшегося интеллигента.
— Как неуемному наезднику своенравного Пегаса…
Остап оборвал распускающуюся жалким цветком фразу.
— Тройной тариф.
— Я вам оду посвящу.
— Согласен только на поэму амфибрахием.
— Так когда пожаловать?
— В ближайшую субботу даем внеплановые сеансы для особо жаждущих повторного приобщения…
Убираю со свечей нагар.
Разглаживаю скатерть, скомканную обидчивым интеллигентом.
Нет, подумать только, какая отзывчивая благородная натура, за Пегаса обиделся.
Вплывает, робко смежив веки, трепеща густыми ресницами, затаенно дыша, вздымая крепко оформленную тугую девичью грудь, покусывая кружевной платочек.
И бьет вопросом наповал.
И меня, и Остапа, и раскручивающийся член.
— Какого цвета будут глаза у человека, который лишит меня девственности?
Вопрос — всем вопросам вопрос.
А буквы: «С», «В», «О».
— Сердце — важный орган! — выносит вердикт Остап и многозначительно касается указательным пальцем кивающего по инерции члена.
— Неужели это правда, что у человека, взявшего мою чистоту, будет сердце?
— Непременно, без оного затруднительно — и не только с невинностью.
— Сердце мужественное, огромное, романтичное?
— Ну, если у вас хватит характера посетить анатомический театр, куда ваш суженый угодит после первой брачной ночи…
— Характера хватит…
Еще парочка подобных девственниц — и можно закрывать лавочку.
То ли дело дитятя блатного мира.
Смирен яко овца.
Лепень клетчатый. Золотая фикса. Полный воровской прикид.
Только бы член не свистнул, уходя.
Без приглашения и разрешения извлекает из золотого портсигара папиросу с золотым ободком.
Я придвигаю клиенту пепельницу, выполненную в виде наяды, раздвинувшей широко чресла.
Одобрительно цыкает.
Щелкает, конечно же, золотой зажигалкой.
— И на ком это я, Сеня Режик, поймал триппер, чтоб ей, падле, сгореть от перепою?
Остап одаривает шикующего венерического неудачника.
— Привидение явилось голое!
— Век воли не видать — Верка, раздолбайка! Не успеешь клеши скинуть, а она, стервоза уже в чем мама родила, стоить раком…