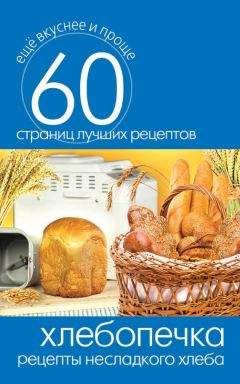Евгений Мин - Другие времена
Завтракали, разговаривали; больше всех говорил Леша, а Леня молчал.
После завтрака Лошкарев предложил Козыревым:
- Пошли бы прогуляться, а я пока кое-чем займусь.
- Пусть Леня идет один, - сказала Тоня, - а мы с Адой посуду помоем, поболтаем о наших делах.
Тоне очень хотелось пойти с мужем, но сейчас, она знала, ему нужно побыть одному. Во дворе Лошкарев сказал Лене:
- Может, желаешь на финках погонять...
- Можно, - сказал Леня.
Лошкарев направился в свой сарай-кладовую, вытащил оттуда финские сани с блестящими длинными полозьями и гибкими ручками.
- Самоделки? - спросил Козырев.
- А как же, - сказал Лошкарев. - Таких нынче нигде не раздобудешь. На них с любой горы кати - управишься... Ну, гуляй, - подтолкнул он к Лене сани.
Ярко светило солнце. С хрустальным звоном падали капли с сосулек. Дорога была накатана, и сани шли легко. Сначала Леня проехал вдоль улицы мимо лошкаревского дома, остановился у стеклянного колпака, накрывавшего знаменитый сарай, постоял, подумал и покатил к озеру.
Озеро, огромное, белое, сверкало мириадами кристаллов. Тугой, настоянный на хвое воздух пьянил. Ветер обжигал лоб, щеки, подбородок. Леня все ускорял и ускорял бег, радуясь движению, воздуху, небу. Он был счастлив, как в далекие годы, когда катался на салазках с мальчишками в Вятке по Копанской улице. И ощущение этого давнего, навсегда утраченного детства охватило его. Он летел на санях, выкрикивая столько слов, сколько не произносил за год.
На середине дороги он устал, остановил сани, повернулся лицом к солнцу, снял ватник, вязаную шапку, уселся на сани и сидел долго, не думая ни о чем. Странно, всегда он воспринимал мир только в цвете и красках, недаром друзья говорили: "козыревский глаз". А сейчас он лишь слушал легкий шорох веток елей, когда с них падали нашлепки снега, тонкий свист ветра, едва уловимое потрескивание льдин. Обоняние его, притуплённое курением, сделалось острым, как у зверя. Запах снега, сосен, казалось, даже солнечного луча, стал доступным ему. Он сидел, слушал, вдыхал мир. Затем он встал, понесся на санях, теперь уже в другую сторону. Он опять утомился, опять сидел, ни о чем не думая. Сколько продолжалось так, он не знал и, лишь взглянув на часы, с досадой подумал: "Пора!"
Когда он вернулся домой, то увидел, что половина плах расколота. Леша был без ватника и берета, в черной сатиновой рубахе с распахнутым воротом. Перед ним стоял чурбан. Легко зацепляя плаху острием топора, Леша ставил ее на чурбан, прицеливался - и плаха с сухим треском разлеталась на части.
- Мне, - сказал Леня, и Леша понял, что он имеет в виду.
- Попробуй, - сказал Леша.
Леня взял топор. Он умел колоть дрова. Но получалось у него совсем не так легко и красиво, как у Леши. Он почувствовал это и отдал Леше топор.
- Молодец, - похвалил его Леша, но в этой похвале сквозила снисходительность.
Тоня выглянула из дома, увидела Леню, обрадовалась:
- Вернулся!.. Щеки у тебя как у младенца.
Послышался голос Аделаиды.
- Пора обедать! - потребовала она.
Лене не хотелось уходить со двора, но Леша сказал:
- Командование, оно знает.
Обедали молча, и даже Леша ничего почти не говорил.
После обеда Козыревых уложили на широкую двухспальную кровать. Им снились разные сны. Тоня видела своего первого мужа, Гурского. Красивый, с жестким, презрительным лицом, он смотрел на нее, цедя сквозь ровные белые зубы: "Вы - плохая актриса... Вы никуда не годная жена. Я вынужден расторгнуть брак с вами". Лене снилось снежное озеро. Ветер вкрадчиво шептал: "Козырев... Козырев... Где же твой глаз?"
Проснулся Леня раньше Тони и вышел во двор. Все дрова были расколоты и уложены в поленницу. Перед ней стоял большой чурбан, на нем лежали топор и рукавицы.
Леня стоял, смотрел и думал. Из дома вышел Леша.
- Отдохнул, свояк? - спросил он.
- Как это ты положил рукавицы? - спросил Леня.
- Обыкновенно, просто бросил их и все, - сказал Леша.
Вышли во двор Тоня и Аделаида.
- Чай, пора чай пить! - засуетилась Аделаида.
- Все, - сказал Леня, и Тоня, зная, что его не уговорить, сказала:
- Пора, пора домой.
Лошкаревы провожали Козыревых на станцию. Подошел поезд. Леня попрощался с Лешей и Аделаидой Павловной, промычав:
- Ну, ладно, - что означало: "Благодарю вас, большое спасибо за все".
Домой Козыревы ехали молча. Тоня дремала, а Леня уставился в грязный пол вагона, будто на нем были какие-то диковинные узоры.
Каждое утро Лени уходил в мастерскую и, запершись, не пускал туда даже близких друзей. "Колдует", - посмеивались одни. "Работает", - говорили другие, а эстетик Ардашев, узнав об этом, пропищал своим нервным тенорком: "Полагаю, обыкновенный запой на почве худосочного реализма".
В начале второго месяца Леня сказал Тоне:
- Приди!
Она поняла, что он закончил работу.
В мастерской все холсты были убраны, а посередине стояло новое полотно. Тоня взглянула на него и заплакала. Тоня, та самая Тоня, из которой нельзя было вышибить и слезинки.
- Что ты? - спросил Леня.
Тоня смотрела на картину, плакала и смеялась, повторяя: "Нет, нет... Не обращай внимания... Глупости..." И вдруг насмешливо спросила:
- Не так?.. Не то?..
- Вещь, - не улыбаясь, сказал Леня.
Казалось, ничего особенного не было изображено на картине: угол старого лошкаревского дома, поленница переколотых дров, большой чурбан, на нем топор и небрежно брошенные рукавицы. Но было в этом полотне столько света, неба, запаха мартовского снега, воздуха, настоянного на солнце и хвое, ветра залива, что хотелось смеяться и плакать.
- Ленька! - закричала Тоня. - Ты не понимаешь, ты же...
- Брось, - остановил ее Леня. - Как назвать?
- Не знаю, - растерялась Тоня. - Может быть, "Март"... Нет, "Счастье"... Нет, "Жизнь".
- Я назову "У свояка".
Приходили друзья-художники, смотрели молча, сосредоточенно, произнося одним им понятные слова.
Полотно взяли на выставку. Там было много интересных работ, но посетители дольше всего задерживались у картины Козырева.
Остановился и эстетик Ардашев, снял тонкие, без оправы очки, прищурился и, против обыкновения, ничего, не сказал.
Суетились работники музеев, говоря Лене искательными голосами: "Только нам...", "У нас оно будет смотреться".
Тоня была счастлива: это - слава и это заштопает прохудившийся семейный бюджет.
Пришли Аделаида Павловна и Леша. На Леше был бостоновый пахнущий нафталином костюм. На Аделаиде Павловне - белая кофточка и юбка, более короткая, чем она носила обычно.
Леня внимательно наблюдал за тем, как Леша рассматривает картину: угол своего дома, поленницу, топор, рукавицы - все такое же, как в жизни, и все другое.
- Вроде похоже, - сказал Леша.
- Хочешь, я подарю тебе? - спросил Леня.
Тоня испугалась. От Лени можно было ждать чего угодно.
- А эта картинка тоже твоя? - спросил Леша и показал на зализанный портрет молодой женщины, склонившейся над школьными тетрадками: чем-то она напомнила ему покойную жену Шуру.
- Нет, это другого, - сказал Леня.
Лошкаревы и Козыревы шли по выставке. Леша пристально рассматривал картины, давая каждой свою оценку.
А у полотна, на котором были изображены угол старого дома, поленница расколотых дров, чурбан, на нем топор и небрежно брошенные рукавицы, скапливалось все больше и больше посетителей, и никто из них не мог понять, почему это полотно называется так странно: "У свояка".
День рождения
– Это не юбилей, а день рождения, – сказала жена, и Николай Николаевич Корыхалов вдруг вспомнил: детство, маленький город с дощатыми тротуарами, весной только ступишь на них – сразу же тебя обдают веселые фонтанчики воды, летнее утро, во двор дома въезжает пролетка, из нее выходит бледная, сильно похудевшая мама, осторожно ступает на землю отец, молодой, тогда он еще носил усы. Отец держит в руках маленький белый сверток. Затем все они: мама, отец и огромный черноволосый дядя Илья – идут в комнату Коли. Отец осторожно кладет на Колину кровать белый сверток и улыбается:
– Посмотри, Колюн, вот у тебя маленький братик.
А Коля кричит противным, визгливым голосом: «Уберите ребенка! Уберите ребенка!» – и убегает в дворовый cад, в лопухи. Там его разыскивает дядя Илья, ворча:
– И не совестно, такой большой парень... Семь лет...
За обедом Коля сидит надув губы, а вечером, когда все пьют чай из самовара и говорят о маленьком братике, Коля, улучив минуту, серьезно и грустно произносит:
– Неважно прошли мои именины, даже пирога не было.
Все смеются и утешают Колю.
Когда это было? Тысячу лет назад!
Много дней рождения отпраздновал Коля, Николай, Николай Николаевич, товарищ Корыхалов, но ни один не остался так свеж в его памяти, как тот давний день. Почему? Да, может быть, потому, что никогда не забываются обиды детства.
– Я налью тебе еще чаю? – спрашивает жена.
– Налей, – соглашается Корыхалов, погруженный в далекие воспоминания, но жена возвращает его к действительности.