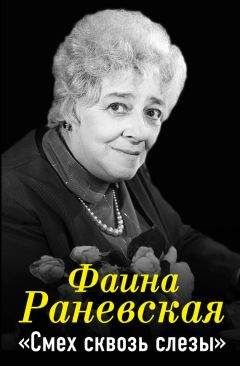Фаина Раневская - Случаи. Шутки. Афоризмы
В другой раз Лапин спросил ее:
— В чем я увижу вас в следующий раз?
— В гробу, — предположила Раневская.
Литературовед Зильберштейн, долгие годы редактировавший «Литературное наследство», попросил как-то Раневскую написать воспоминания об Ахматовой.
— Ведь вы, наверное, ее часто вспоминаете, — спросил он.
— Ахматову я вспоминаю ежесекундно, — ответила Раневская, — но написать о себе воспоминания она мне не поручала.
А потом добавила: «Какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти — воспоминания друзей».
В больнице, увидев, что Раневская читает Цицерона, врач заметил:
— Не часто встретишь женщину, читающую Цицерона.
— Да и мужчину, читающего Цицерона, встретишь не часто, — парировала Фаина Георгиевна.
В театре им. Моссовета Охлопков ставил «Преступление и наказание». Геннадию Бортникову как раз об эту пору выпало съездить во Францию и встретиться там с дочерью Достоевского. Как-то, обедая в буфете театра, он с восторгом рассказывал коллегам о встрече с дочерью, как эта дочь похожа на отца:
— Вы не поверите, друзья, абсолютное портретное сходство, ну просто одно лицо!
Сидевшая тут же Раневская подняла лицо от супа и как бы между прочим спросила:
— И с бородой?
Раневская стояла в своей грим-уборной совершенно голая. И курила. Вдруг к ней без стука вошел директор-распорядитель театра имени Моссовета Валентин Школьников. И ошарашенно замер. Фаина Георгиевна спокойно спросила:
— Вас не шокирует, что я курю?
Артисты театра послали Солженицыну (еще до его изгнания) поздравительную телеграмму. Живо обсуждали этот акт. У Раневской вырвалось:
— Какие вы смелые! А я послала ему письмо.
Известная актриса в истерике кричала на собрании труппы:
— Я знаю, вы только и ждете моей смерти, чтобы прийти и плюнуть на мою могилу!
Раневская толстым голосом заметила:
— Терпеть не могу стоять в очереди!
— Почему Бог создал женщин такими красивыми и такими глупыми? — спросили как-то Раневскую.
— Красивыми — чтобы их могли любить мужчины, а глупыми — чтобы они могли любить мужчин.
Раневская вспоминала, что в доме отдыха, где она недавно была, объявили конкурс на самый короткий рассказ. Тема — любовь, но есть четыре условия:
1) в рассказе должна быть упомянута королева;
2) упомянут Бог;
3) чтобы было немного секса;
4) присутствовала тайна.
Первую премию получил рассказ размером в одну фразу:
«О, Боже, — воскликнула королева. — Я, кажется, беременна и неизвестно от кого!»
Режиссер театра имени Моссовета Андрей Житинкин вспоминает.
— Это было на репетиции последнего спектакля Фаины Георгиевны «Правда хорошо, а счастье лучше» по Островскому. Репетировали Раневская и Варвара Сошальская. Обе они были почтенного возраста: Сошальской — к восьмидесяти, а Раневской — за восемьдесят. Варвара была в плохом настроении: плохо спала, подскочило давление. В общем, ужасно. Раневская пошла в буфет, чтобы купить ей шоколадку или что-нибудь сладкое, дабы поднять подруге настроение. Там ее внимание привлекла одна диковинная вещь, которую она раньше никогда не видела — здоровенные парниковые огурцы, впервые появившиеся в Москве посреди зимы. Раневская, заинтригованная, купила огурец невообразимых размеров, положила в глубокий карман передника (она играла прислугу) и пошла на сцену.
В тот момент, когда она должна была подать барыне (Сошальской) какой-то предмет, она вытащила из кармана огурец и говорит:
— Вавочка (так в театре звали Сошальскую), я дарю тебе этот огурчик.
Та обрадовалась:
— Фуфочка, спасибо, спасибо тебе.
Раневская, уходя со сцены, вдруг повернулась, очень хитро подмигнула и продолжила фразу:
— Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь ешь его, хочешь — живи с ним.
Вере Марецкой присвоили звание Героя Социалистического Труда.
Любя актрису и признавая ее заслуги в искусстве, Раневская тем не менее заметила:
— Чтобы мне получить это звание, надо сыграть Чапаева.
— Меня так хорошо принимали, — рассказывал Раневской вернувшийся с гастролей артист N. — Я выступал на больших открытых площадках, и публика непрестанно мне рукоплескала!
— Вам просто повезло, — заметила Фаина Георгиевна. — На следующей неделе выступать было бы намного сложнее.
— Почему?
— Синоптики обещают похолодание, и будет намного меньше комаров.
Идет обсуждение пьесы. Все сидят.
Фаина Георгиевна, рассказывая что-то, встает, чтобы принести книгу, возвращается, продолжая говорить стоя. Сидящие слушают и вдруг:
— Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: не могу стоять, когда мужчины сидят, — как бы между прочим замечает Раневская.
— Дорогая, сегодня спала с незапертой дверью. А если бы кто-то вошел, — всполошилась приятельница Раневской, дама пенсионного возраста.
— Ну сколько можно обольщаться, — пресекла Фаина Георгиевна собеседницу.
— Почему женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта?
— Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых.
Глава VI
МУЛИ, ИЛИ ВЕСЕЛЬЕ В АДУ
Во время эвакуации Ахматова и Раневская часто гуляли по Ташкенту вместе. "Мы бродили по рынку, по старому городу, — вспоминала Раневская. За мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать Анну Андреевну. К тому же я остро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Ахматовой. «Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой Myля!» Я спросила: «Что у вас „Myля?“ „Сжала руки под темной вуалью“ — это мои „Мули“, — сказала Анна Андреевна».
Раневская спешила увидеть смешное — и тем защититься от реальности. Можно сказать, что она умудрилась сотворить из собственной жизни комический «ужастик» и сыграть в нем лучшую свою роль.
Раневская рассказывала, что, когда Ахматова бранила ее, она огрызалась. Тогда Ахматова говорила:
— Наша фирма — «Два петуха!»
— В эвакуации в Ташкенте Раневская взялась продать кусок кожи для обуви. Обычно такая операция легко проводится на толкучке. Но она направилась в комиссионный магазин, чтобы купля-продажа была легальной. Там кожу почему-то не приняли, а у выхода из магазина ее остановила какая-то женщина и предложила продать ей эту кожу из рук в руки. В самый момент совершения сделки появился милиционер — молодой узбек, — который немедленно повел незадачливую спекулянтку в отделение милиции. Повел по мостовой при всеобщем внимании прохожих:
— Он идет решительной, быстрой походкой, — рассказывала Раневская, — а я стараюсь поспеть за ним, попасть ему в ногу и делаю вид для собравшейся публики, что это просто мой хороший знакомый и я с ним беседую. Но вот беда: ничего не получается, — он не очень-то меня понимает, да и мне не о чем с ним говорить. И я стала оживленно, весело произносить тексты из прежних моих ролей, жестикулируя и пытаясь сыграть непринужденную приятельскую беседу… А толпа мальчишек да и взрослых любителей кино, сопровождая нас по тротуару, в упоении кричала: «Мулю повели! Смотрите, нашу Мулю ведут в милицию!» Они радовались, они смеялись. Я поняла: они меня ненавидят!
И заканчивала со свойственной ей гиперболизацией и трагическим изломом бровей:
— Это ужасно! Народ меня ненавидит!
Раневская передавала рассказ Ахматовой.
— В Пушкинский дом пришел бедно одетый старик и просил ему
помочь, жаловался на нужду, а между тем, он имеет отношение к Пушкину. Сотрудники Пушкинского дома в экстазе кинулись к старику с вопросами, каким образом он связан с Александром Сергеевичем. Старик гордо объявил:
— Я являюсь праправнуком Булгарина.
В январе 1940 года Анна Андреевна Ахматова опубликовала теперь уже зацитированные до дыр великие строчки:
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
И тогда же в сороковом году их должны были прочитать по радио. Но секретарь Ленинградского обкома по пропаганде товарищ Бедин написал на экземпляре стихотворения свою резолюцию: «Надо писать о полезных злаках, о ржи, о пшенице, а не о сорняках».
Раневская передавала рассказ Надежды Обуховой. Та получила письмо от ссыльного. Он писал: "Сейчас вбежал урка и крикнул: «Интеллигент, бежи скорей с барака. Надька жизни дает».
Это по радио передавали романсы в исполнении Обуховой.
В 1954 году советское правительство решило сделать большой подарок немецкому народу, возвратив ему его же собственные сокровища Дрезденской галереи, вывезенные во время войны как дорогой трофей.