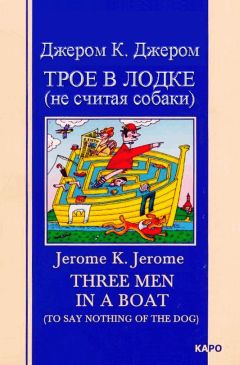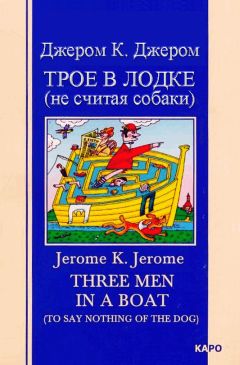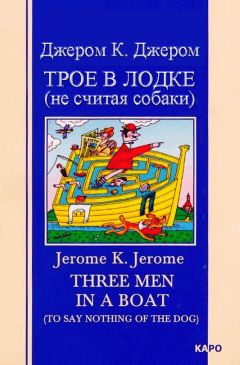Джером Джером - Трое в лодке (не считая собаки)
Тогда мы решили прекратить это азартное занятие. Гаррис сказал, что оно слишком возбуждающе действует на нервную систему, если хватить через край. Джордж предложил было продолжать, чтобы мы могли отыграться, но я и Гаррис решили не вступать в единоборство с судьбой.
После этого мы приготовили себе пунш, уселись в кружок и принялись болтать. Джордж рассказал нам об одном своем знакомом, который два года назад поднимался вверх по Темзе, и однажды, – погода была точь-в-точь, как сейчас, – провел ночь в сырой лодке, и схватил ревматизм, и ничто уже не могло его спасти, и десять дней спустя он умер в страшных мучениях. Джордж сказал, что его знакомый был совсем молодым человеком, и как раз собирался жениться, и что вообще нельзя себе представить ничего более трагического, чем этот случай.
Тут Гаррис вспомнил одного своего приятеля, который служил в волонтерском полку, и однажды возле Олдершота провел ночь в сырой палатке, – «погода была точь-в-точь, как сейчас», – сказал Гаррис, – и утром проснулся калекой на всю жизнь. Гаррис сказал, что, когда мы вернемся в город и он познакомит нас с этим приятелем, наши сердца обольются кровью при одном взгляде на несчастного.
Сразу же, само собой разумеется, завязалась увлекательная беседа о прострелах, лихорадках, простудах, бронхитах и воспалениях легких, и Гаррис сказал, что если бы кто-нибудь из нас вдруг серьезно заболел, это было бы просто ужасно, так как поблизости нет ни одного врача.
Подобные разговоры, по-видимому, неизбежно влекут за собой жажду развлечений, и вот, в минуту слабости, я предложил Джорджу вытащить банджо и попытаться исполнить какую-нибудь песенку повеселее.
Должен заметить, что Джорджа не пришлось упрашивать. Он не стал лепетать всякий вздор о том, что оставил банджо дома и тому подобное. Он тотчас же выудил откуда-то свой инструмент и заиграл «Волшебные черные очи».
До этого вечера я всегда считал мотив «Волшебных черных очей» довольно-таки банальным. Однако Джордж сумел вложить в него столько меланхолических чувств, что я был просто потрясен.
Чем дольше слушали мы с Гаррисом эти траурные звуки, тем сильнее мучило нас желание броситься друг другу в объятия и зарыдать; нечеловеческим усилием воли мы подавили подступающие слезы и в молчании слушали душераздирающую мелодию.
Когда дело дошло до припева, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Мы снова наполнили стаканы и хором затянули следующие слова, причем Гаррис запевал дрожащим от волнения голосом, а я и Джордж вторили ему:
Волшебные черные очи,
Я вами сражен наповал!
За что вы меня погубили,
За что я так долго…
Тут мы не выдержали. Непередаваемая экспрессия, с которой Джордж проаккомпанировал словам «за что», окончательно сломила наш и без того уже угнетенный дух. Гаррис рыдал как ребенок, а собака так выла, что я стал бояться: вдруг она надорвет себе сердце или голос?
Джордж хотел исполнить еще один куплет. Он считал, что, когда он лучше вникнет в мелодию и сможет вложить в исполнение больше непринужденности, она будет звучать не так плачевно. Однако мы большинством голосов отклонили этот эксперимент.
Делать было больше нечего, и мы легли спать, то есть разделись и начали ворочаться на дне лодки. Часа через три мы кое-как забылись беспокойным сном, а в пять утра уже поднялись и позавтракали.
Второй день был как две капли воды похож на первый. Дождь не прекращался ни на минуту, а мы, закутавшись в непромокаемые плащи, сидели под брезентом и медленно плыли по течению.
Один из нас – не помню, кто именно, но, кажется, это был я – сделал утром робкую попытку снова понести вчерашнюю цыганскую чепуху насчет того, что вот, мол, мы дети Природы и любители слякоти. Все было напрасно. Песенка: "Что может быть противнее дождя" – с такой мучительной очевидностью выражала наши чувства, что распевать ее тоже не имело смысла.
В одном пункте мы были единодушны: будь что будет, но мы доведем это дело до конца, каков бы он ни был. Мы собирались две недели наслаждаться плаваньем по реке, и мы будем две недели наслаждаться плаваньем по реке. Пусть мы при этом погибнем, – что ж, тем, хуже для наших друзей и родственников! Тут уж ничего не поделаешь! Мы чувствовали, что при нашем климате спасовать перед погодой значило бы создать опаснейший прецедент.
– Осталось всего два дня, – сказал Гаррис, – а мы молоды и сильны. В конце концов, быть может, мы еще останемся в живых.
Часов около четырех мы приступили к обсуждению планов на вечер. В тот момент мы находились немного ниже Горинга и намеревались добраться до Пенгборна, чтобы там заночевать.
– Еще один приятный вечерок! – проворчал Джордж.
Мы сидели в глубоком раздумье. В Пенгборне мы будем, вероятно, к пяти. С обедом можно управиться, скажем, к половине седьмого. Дальнейшее времяпрепровождение рисовалось нам в виде следующей альтернативы: либо гулять по городку под проливным дождем, пока не придет время отправляться ко сну, либо сидеть в унылом, полутемном баре и изучать календарь.
– Уф, пожалуй, даже в «Альгамбре» было бы веселее! – сказал Джордж, высовывая на секунду нос из-под брезента и оглядывая небо.
– Если потом поужинать у ***, – машинально добавил я [3].
– Да, прямо-таки чертовски досадно, что мы решили не расставаться с лодкой, – ответил Гаррис, после чего воцарилось молчание.
– Если бы мы не решили обречь себя на верную смерть в этой проклятой дряхлой посудине, – заметил Джордж, с нескрываемой ненавистью оглядывая лодку, – стоило бы, пожалуй, припомнить, что, насколько мне известно, поезд из Пенгборна отходит в начале шестого. Мы попали бы в Лондон как раз вовремя, чтобы наскоро перекусить, а потом отправиться в заведение, о котором ты говоришь.
Ему никто не ответил. Мы поглядывали друг на друга, и, казалось, каждый читал на лицах остальных свои собственные подлые мысли и намерения. Ни слова не говоря, мы вытащили и уложили наш кожаный саквояж. Мы посмотрели на реку: в одну сторону и в другую сторону. Кругом – ни души.
Двадцать минут спустя можно было наблюдать, как трое мужчин в сопровождении сконфуженного пса, крадучись, пробираются от пристани у гостиницы «Лебедь» к станции железной дороги.
Одежда путников не отличалась ни чистотой, ни элегантностью: черные кожаные башмаки – грязные; фланелевые костюмы – очень грязные; коричневые фетровые шляпы – измятые; плащи – насквозь промокшие; зонтики.
Лодочника в Пенгборне мы попросту обманули (у нас не хватало духу сознаться, что мы решили сбежать от дождя). Лодку, со всем ее содержимым, мы оставили на его попечение и велели приготовить ее для нас к девяти часам утра. Если же, сказали мы, какие-нибудь непредвиденные обстоятельства задержат нас, то мы ему напишем.
В семь часов мы прибыли на Пэддингтонский вокзал и прямо кинулись в вышеупомянутый ресторан; слегка перекусив, мы поручили хозяину присмотреть за Монморанси (а также за ужином, который следовало приготовить к половине одиннадцатого) и направили свои стопы к Лейстер-скверу.
В «Альгамбре» мы стали центром всеобщего внимания. В кассе нам сердито сказали, что мы опоздали на полчаса и что артистам положено входить с Касл-стрит. Нам стоило немалых трудов убедить кассира, что мы вовсе не «Всемирно известные акробаты с Гималайских гор», после чего он получил с нас деньги и позволил войти.
Внутри нас ожидал еще больший успех. Люди не могли оторвать восхищенных взоров от наших благородных бронзовых физиономий и живописных костюмов. Мы вызвали всеобщую сенсацию.
Это был настоящий триумф!
Как только окончилось выступление кордебалета, мы удалились и вернулись в ресторан, где нас уже ожидал ужин.
Должен признаться, я получил удовольствие от этого ужина. Целых десять дней мы пробавлялись, в общем, только холодным мясом, кексами и хлебом с вареньем. Пища, что и говорить, простая и питательная, но не слишком богатая острыми ощущениями. Поэтому аромат бургундского, и запах французских соусов, и аппетитные булки, и чистые салфетки, как долгожданные гости, наперебой стучались в двери наших душ.
Сперва мы жадно ели и пили в полном молчании, выпрямившись и крепко ухватив ножи и вилки, но время шло, и вот мы откинулись на спинки стульев, и стали ленивее жевать мясо, и уронили на пол салфетки, а потом вытянули ноги под столом, обвели критическим взором закопченный потолок, которого вначале не заметили, отставили подальше бокалы и преисполнились доброты, глубокомыслия и всепрощения.
Гаррис, сидевший у окна, отдернул штору и посмотрел на улицу.
Влажно поблескивала мокрая мостовая, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, струи дождя яростно хлестали по лужам, и целые потоки низвергались на тротуар из водосточных желобов. Вымокшие прохожие бежали рысью, сгорбившись под зонтиками, с которых вода лила в три ручья; женщины высоко подбирали юбки.