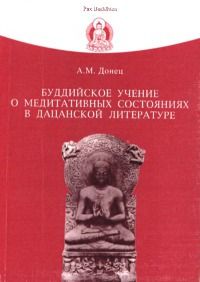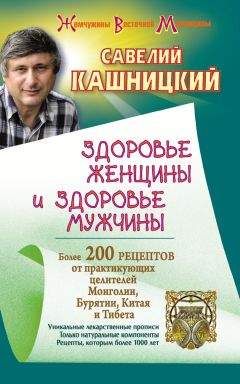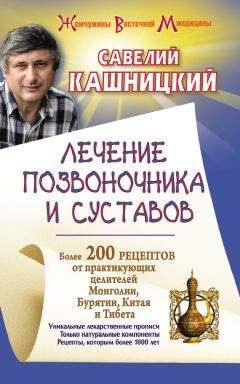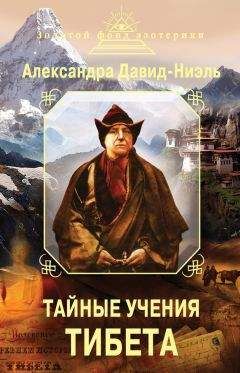Йозеф Шкворецкий - Львенок
— Идиот, — сказал я.
— Напишу ей письмо.
— Отличная идея.
— Плевать я на все хотел!
— Может, ты еще и напьешься?
— Может. — Он протянул мне руку.
— Не сходи с ума. Я лично пока домой не собираюсь.
— А я тебе это и не предлагаю. Я иду один.
Поняв, что можно смело разыгрывать из себя преданного друга, я заявил:
— Ну вот что: ты отправляешься к Серебряной, а я покидаю арену.
— Нет, Карел, я не могу. Правда не могу. Да, я дурак, я знаю.
— Что есть, то есть. Причем круглый.
— Вы, писатели, не такие. Но вот если бы ты, к примеру… — Вашек старательно подыскивал сравнение. — Вот написал бы ты стихотворение, а оно вышло таким глупым, что уронило бы тебя в ее глазах.
Я быстренько прикинул в уме. Стихотворение для барышни Серебряной? Я давно уже писал о совершенно иных предметах, а если и упоминал о любви, то разве что о любви вообще. Я не подгонял ее под конкретных девушек. Конкретные девушки слишком эфемерны, поэзия же — вечна. Но эта, с антрацитовыми глазами без радужек…
Вашек тем временем развивал свое сравнение.
— Вот и у меня то же самое, только подвела не голова — подвело тело. Конечно, ты бы ее в момент уговорил, пускай бы тебе даже твой стих и не удался, но я-то так не умею…
Я собрался было сказать, что как раз потому, что его бицепсы сослужили ему сегодня в волнах Влтавы не слишком хорошую службу, ему и надо непременно взять реванш. Я собрался было открыть ему секрет полишинеля: если он сделает это сегодня, то завтра ему станет значительно легче. В этот горестный миг я даже собирался разоткровенничаться и поведать, как стеснялся когда-то красавиц и излечился от стеснительности одной лишь силой воли. Как ходил на вечеринки и нарочно танцевал с самыми симпатичными девушками, без умолку болтая с ними, — ведь всё на свете, абсолютно всё, достигается тренировками и только ими, вот и в его идиотском баскетболе дело обстоит точно так же… но потом я взял себя в руки и поддался доводам разумного эгоизма. Все равно я ничего не сумел бы ему втолковать. Да, Вашек мне друг, но сколько друзей было забыто ради женщин! И едва я сообразил, что далеко не одинок в своем двоедушии, как тут же почувствовал: моя совесть чиста. В конце концов, пожертвую этическими принципами и предпочту им зов страсти! Ведь это так естественно. И я сказал:
— Ну, раз решил, иди. Но сопровождать ее на гимнастику все равно тебе, запомни!
— Там видно будет, — ответил Вашек. — Привет!.. Да, вот еще что… — он замялся. — Извинись за меня, ладно? Мол, плохо мне стало… или еще что. Пока!
Тут и лгать не придется, подумал я. Вашек испарился, а меня охватила радостная жажда деятельности.
Я выбрался из крохотной будочки спасателя на слепящий солнцепек пляжа, и в мои уши хлынула его гармоничная музыка. Я устремился через поле нагих тел к тому единственному, которое влекло меня к себе невидимыми нитями, более прочными, чем нейлон, и быстро опутывало ими, как паук опутывает беспомощную муху.
Серебряная сидела на простыне, обхватив руками колени, и следила за мной сквозь черные очки.
— А где же господин профессор? — спросила она и подвинулась, давая мне место на простыне.
Я уселся с ней рядом.
— Он пошел домой.
— Почему?
Я замешкался с ответом. Сказать, что ему стало дурно? Да ну его к черту, наш уговор!
— А вы что же, не понимаете?
Она сняла темные очки и посмотрела на меня своими антрацитовыми глазами. Прочесть по ним что-либо было невозможно, и все-таки мне стало зябко. Может, именно потому, что я ничего в них не прочитал. О чем она думала?
— Не понимаю. Почему? — опять спросила она.
— Ему неприятно. Он решил, что повел себя недостойно.
Некоторое время она продолжала сверлить меня неподвижным взглядом, а затем произнесла задумчиво:
— Гм! — И только.
— Он собирался завести с вами роман, — предательски продолжал я. — Потому-то меня сюда и позвали.
— Как это?
Она опять — совершенно непонятно, зачем — надела очки.
— Я так понял, что вы держитесь с ним слишком сдержанно. Он даже свидания не смог от вас добиться. Вот и пришлось ему подключить меня. Я договорился о нашем совместном походе на гимнастику, но предполагается, что сам я туда не приду.
Девушка легла на спину. В ее очки снова вплыла флотилия облаков.
— Вы его друг?
— Да.
— Зачем же вы мне это рассказываете?
— А вам неинтересно?
Короткая пауза.
— Неважно, — наконец сказала она.
— Важно, — сказал я.
Она помолчала, а потом произнесла загадочное:
— Добавьте сюда местоимение.
Я не понял.
— «Вам!» — медленно проговорила она. — Так и скажите, что вам это важно.
До меня, наконец, дошло, и я рассмеялся, однако лицо девушки оставалось бесстрастным. Я произнес решительно:
— Теперь-то я уж точно приду на гимнастику.
— Вопрос в том, приду ли туда я.
— Но вам вовсе не обязательно… — я запнулся. —.. Вовсе не обязательно идти именно на гимнастику. До тех пор еще целая неделя, а в ней целых семь дней. Я могу семь раз прийти куда-нибудь еще. Что вы на это скажете?
— В данный момент вы здесь, а господин Жамберк отправился домой. По-моему, этого пока достаточно.
Я перевернулся на бок и оперся на локоть. Я неторопливо, с головы до пят, исследовал барышню Серебряную взглядом. Короткая стрижка, блестящие волосы цвета воронова крыла, классический профиль очень красивого лица, покатые плечи, кожа, гладкая, как коричневый шелк, грудь, которая даже сейчас, когда девушка лежала на спине, не утратила своей триумфальной и божественной формы; впалый живот с крохотным пупком, мелкие черные волосики возле трусиков, длинные, стройные — но ни в коем случае не худые — ноги, ровные, коричневые и прекрасные.
— Гм, — уже во второй раз хмыкнула девушка, но я продолжал свою анатомическую экскурсию.
— Может, скажете что-нибудь? — предложила она.
— Вы в Праге недавно, да? — спросил я.
— Да. Всего месяц.
— А как у вас с квартирой? — поинтересовался я. — Я здесь уже десять лет, но своего жилья у меня так и нет. Снимаю.
Я взглянул в темные очки. Она отлично поняла смысл моих слов, и на загорелом лице вновь сверкнул жемчужно-солнечный зайчик.
— У меня однокомнатная.
Я почувствовал, как во мне шевельнулась радость бытия.
— Уточняю, — продолжала она. — Одна подруга поделилась со мной своей квартирой.
— И добавила, будто уже сказанного было мало: — У нее сейчас ангина, и она почти не встает.
Я невольно помрачнел. В глазах барышни Серебряной блеснули — сквозь очки — странные искорки. — Дайте мне сигарету, — сказала она. Однако! Ну и штучка эта самая барышня Серебряная!
Она спросила:
— Вы ведь стихи пишете, да?
Мы сидели на лавочке под ивой неподалеку от киоска с едой. Я удивился осведомленности барышни Серебряной. Как я выяснил, она работала в какой-то вечно реорганизующейся конторе, то ли «Зооэкспорте», то ли «Звероэкспорте»… в общем, в чем-то таком, и хотя мне не довелось пока увидеть ее в платье, я подозревал, что она больше интересуется нарядами, чем поэзией.
— Ну… случается иногда, — скромно ответствовал я. — И как они вам?
— Не очень.
Видит Бог, я был не слишком высокого мнения о творениях своей Музы: они давно уже напрямую зависели от кадровой политики и не имели ничего общего со смыслом моей жизни. И все-таки откровенность барышни Серебряной показалась мне чрезмерной.
— Что так?
— По-моему, это все не всерьез. В них нет никакого чувства. Вы в основном озабочены тем, чтобы их напечатали.
Меня впервые разоблачали столь мучительно больно. Может, мои поделки мало кто читал, а может, те, кто их читал, озабоченность автора попросту проглядели. Во всяком случае я хранил пару писем от читательниц, которые ничего не заметили. Я засмеялся кислым и очень неестественным смехом.
— Вы ошиблись в выборе профессии. Вам бы в литературные критики податься. Счастье, что не подались.
Серебряная тянула через соломинку зеленый лимонад.
— Меня не проведешь. А вы вообще пробовали писать просто так? О любви, например?
Пробовал ли я? Любопытно: ведь я сегодня уже думал о лирике, причем как раз в связи с этой загорелой девицей. Если же начистоту, то о любви я написал целый том. Когда учился в гимназии.
— Пробовал, — признался я. — Только давно.
— Моей сестре писал стихи один парень, — сказала Серебряная. — С тех пор мне ничего больше не нравится, хотя я и была тогда совсем малявка. Не то чтобы я разбиралась в поэзии, — быстро добавила она, — да я их все и не помню. Просто у меня в голове живет их… настроение, понимаете? А так только одна строфа и застряла в памяти. «Я пишу вам, Салина, а под окном пан Лустиг играет на гитаре…»