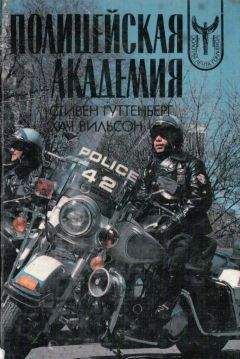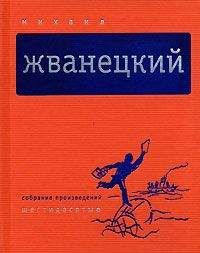Михаил Жванецкий - Собрание произведений в пяти томах. Том 2. Семидесятые
Отсюда бесконечные пьянства с такими же.
Грубый рот.
Никакого интима, все громко, чтоб задавить сразу.
Разлюбившая жена.
Ученая степень в конце жизни вместо начала.
Вечные стремления за границу хоть на день, на два.
Дети должны быть там, на любой работе. Хоть горничной в каюте. И вроде все есть, с точки зрения соучастников, – ничего нет из того, за что будут вспоминать дети.
И в самом сосредоточенном состоянии, обложившись справочниками всего мира, готовясь год и будучи уже месяц трезвым, не выскажет и десятой доли тех мыслей и таким языком, как скажет Битов, готовясь отойти ко сну.
Отсюда и окончание такое же серое, как и начало.
Ничего-ничего, так и научимся. Распарывая, поймем, как сшито. Взрывая, разберемся, как строили. Обвиняя и видя на лице ужас, представим это лицо счастливым – это же одно и то же лицо.
Я так привык сам с собой разговаривать: просто приятно поговорить с умным человеком. Но сейчас уже не с кем говорить.
Чтобы оба были в дураках – такого еще не бывало.
Женщину легче поменять, чем понять.
Закон нашей жизни:
не привыкнешь – подохнешь!
не подохнешь – привыкнешь!
Ограбили страну до состояния социализма.
Птицы в Москве летают в подземных переходах между ногами.
Это разве птицы?
Воробьи налетают на тарелку пока несешь к столу облепляют, как мухи, топчутся в борще...
Что же такое?
Совсем что ли мы сгрудились на пятачке?
Птицы у мух хлеб отбивают.
Люди у кошек воруют колбасу...
Смотри, как мы мешаем друг другу.
Надо, чтоб в стране какая-то одна нация осталась.
Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь.
Простите меня
Я так рад, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию.
ПрохожийИ какая-то такая с детства боязнь огорчить окружающих. Двадцать километров пешком, чтобы не спрашивать. Огромные попытки самолечения, чтоб не вызывать. Громкий храп, чтоб не свидетельствовать.
Обидно огорчать стольких людей чем попало, самой жизнью своей. Близких – мы уже как-то привыкли. Это обычно... Вернее... Хотя... тоже... Но все-таки нет. А вот дальних, то есть совершенно незнакомых, за что? Он же ни в чем. Вернее... Хотя, может... Так сомневаешься – рассказывать, не рассказывать. Тут... вряд ли что исправишь... Я и не для того, чтобы исправить... но душу облегчить себе... вернее... да, себе.
Сейчас каждый рвется высказаться и слушать некому. Встречаются двое, перебивая друг друга, вываливают и расходятся как бы облегченные. Слушать все это внимательно невозможно... А может... не стоит... хотя... чтобы облегчить, надо выслушать. А я не могу просто слушать... я вхожу в его положение... А выбраться оттуда... А он уже ушел...
Почему слушающий засыпает, а говорящий нет? Примеры мелкие, но для меня это жизнь.
Бог меня не наградил интересной работой. Вообще никакой... то есть хожу туда... страшнее нет, чем ничего не делать. Я понимаю, чтоб мы не хулиганили на улице, нас надо где-то держать, и вот это назвали КБ, и мы притворяемся конструкторами, бухгалтерами, а один притворяется заведующим, и даже, если появилась работа, мы загораемся, наваливаемся, придумываем, и это никому не нужно. Еще раз навалились, придумали – опять никому не нужно.
В колхоз поехали. Помидоры с криком, скандалом собрали – до сих пор лежат. Когда результат не нужен, трудно процесс сделать захватывающим, и люди меняются. Невозможно поймать чьи-либо глаза. Недовольный зарплатой не может поднять глаз. За что ему увеличивать? Он же сам придумал причину. Стыда уже нет, и нет достоинства, и начальник решительный, деловой, и ему рассказать нечего, кроме заграничной поездки.
Кто-то строит дорогу, ведет газ. Я думаю, вы их отличаете, потому что главное в мужской жизни – дело. Чтобы он не стал слезливым и женственным. И это не безработица. Это сущая безделица. Каламбур... вернее... ну какая же это шутка?.. Так, чушь... Если моя жизнь вызывает улыбки... я рад... Берите ее в качестве сюжета, эпизода или хотя бы шутки... Я уже давно ищу ей какое-то применение.
Мы так привыкли делать то, что никому не нужно, что, когда это кому-то понадобилось, оно все равно не работало... Такие мы неудачники... Хотя многие завидуют.
Таким образом, в жизни остались две трети, где я сам – работа для других... Представляю, как это увлекательно...
Не хотел я огорчать своим появлением товарища, ведущего такси, когда, сев к нему в салон, сказал, куда мне. Он попросил выйти и сказать. Я вышел и сказал. Он попросил забрать чемодан и сказать. Я забрал чемодан и сказал. Это не было в другом городе. Это было здесь. Он огорчился и не хотел. А я ведь там живу. Ну, невыгодный район, но я ведь там живу. Я показал паспорт с пропиской, и он мне показал документы, и по документам мы должны были ехать в разные стороны. Мне кричат – ты был прав, он был должен... Конечно... Хотя... тут действительно...
Мы уже столько лет предъявляем свои смешные претензии. Кто должен? Что его вынуждает меня везти? Если бы он меня просил. Это же я их прошу: отвезите, отпустите, продайте, их же мои деньги не интересуют. Он ничего от меня не хочет, а я его останавливаю, чего-то кричу, прошу ехать со мной... И уже столько лет мы кричим, а они едут, что я в восторге от незыблемости, от ощущения огромной прочности, которая вселяет надежду, что жить можно припеваючи, если проникнуть, понять и ехать туда, куда он едет, и быть голодным, когда столовая открыта, и в очереди учить английский, в приемной вязать, на работе готовить наживку, утром ужинать, вечером делать зарядку, чтоб попасть в систему...
Мы же должны когда-нибудь встретиться.
Теперь она... Мне действительно нужны были штаны этого размера. Я же не шутил или там издевался... но штаны мне нужны... как же без них... вернее... хотя... Нет, все равно тяжело. Я ей показал сантиметр. Ну действительно сорок восьмой, третий рост. И такой размер у миллионов, а штанов было сто. Она мне показала документы, и по документам я без штанов совершенно официально ушел домой, Я хочу объясниться, чтоб меня правильно поняли наверху: штанов много, их очень много, в случае катастрофы их хватит на всех... Просто нет тех, что подходят...
Я опять хочу, чтобы меня правильно поняли наверху: такой размер, какой мне нужен, тоже есть, только нет тех, что подходят. Это буквально незначительный процент от всего огромного процента, что есть, и я ношу те, что не подходят, и с удовольствием. Они приятны тем, что внутри них можно двигаться какое-то время, пока тронутся они, и в карманы, не искажая формы, помещается до двух килограммов картошки... И я доволен, если б... не женщины у нас на работе. Я одинок... Мне, чтоб подойти к даме, столько нужно преодолеть...
а в тех штанах... они такой тон вызывают у них, что я уже не приподнимаюсь, нужно, чтоб кто-то поговорил с женщинами, это они толкают мужчин, чтоб... очень по размеру или по фигуре... Но чтоб одеть по цвету и размеру, надо сразу жить нечестно. И пусть не притворяются, что они этого не понимают... и нужно с ними поговорить... они хотят красоты. И тут... хотя надо... Это же... Но все-таки... честность прежде... хотя тоже неизвестно почему... но ведь... может быть, это не должно противостоять, с ними нужно поговорить... хотя можно и не говорить. Может, они правы. Извините.
Пока меня не настигают сомнения, я могу что-то сказать, потом, как нахлынут – и там, и там, и все правы... Я бы не мог командовать людьми... этих освободить, тех посадить, потом тех посадить, этих освободить. Я как-то не хочу вмешиваться в чужие жизни, я хочу прожить, не огорчая других; честно это или нечестно, порядочно или нет – не мне судить. Но уж если живешь, то и лечиться надо. Ну я же не знал, что, входя к ней в кабинет, нельзя дверь широко открывать. Она сразу сказала: «Почему они все за вами?..» Я сказал: «Как же... действительно... что за черт». Она сказала: «Я же только до двух, что, в регистратуре не соображают?» Я сказал: «Действительно... что же это... черт... как же?..» – «Ну я приму еще троих, а куда денутся остальные? А?..» Я сказал: «Действительно... черт... ну, как же... что же... вот черт... да...» – «А почему они все ко мне? У нее же меньше людей!» Я сказал: «Ну да... черт... действительно...» – «Это где же вас так лечили? Это же безграмотно». Я кивнул. «Вам что, прогревали?» Я кивнул. «Ни в коем случае. Чем же вас теперь спасать? Поднимите рубаху! Боже, опустите быстрее. Я буду звонить. Они начали, пусть они доведут до конца!»
Она долго звонила. Они долго боролись, чтоб меня не лечить, но отбиться нам не удалось, и она меня лечит.
Я все-таки хочу, чтоб меня правильно поняли наверху: она права. Они же действительно меня безграмотно лечили, а потом направили к ней, потому что она хороший врач... Но ведь и у плохих кто-то должен лечиться. Пусть и выкручиваются. А я бы сдох у них на столе. Вот бы они затанцевали. У врача, который меня лечил, на руке была татуировка: «Не забуду мать родную!» – и говорил он: «Это наш гламный терапеут». А чем его наказать, кроме как умереть у него на столе?.. Сколько нас должно у него умереть, чтоб он перестал поступать в медицинский институт? А прокурор правильно кричал: вам только позволь, и вы помчитесь к хорошему врачу, и он заживет как барин, и дом его будет выделяться богатством и огнями, и станет он жить не нашей жизнью, а это еще хуже, чем хорошо лечить. Так что давай оставим пока так, как есть. Очень тяжело менять, ничего не меняя, но мы будем...