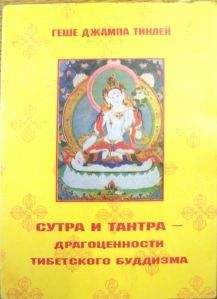Дмитрий Минаев - Поэты «Искры». Том 2
ИЗ ПЕРЕВОДОВ
Генрих Гейне
332. ИЗ ПОЭМЫ «ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
В старом Ахене в старой гробнице лежит
Карл Великий… Я верен надежде,
Что с ним Мейера Карла не будут мешать;
Этот «карлик» жил в Швабии прежде.
В императорском гробе во храме лежать
Не желал бы я трупом отпетым;
В этом случае лучше бы я предпочел
Жить в Штутгарте безвестным поэтом.
Даже псы в древнем Ахене выли с тоски
И просили такого привета:
Чужестранец! Пожалуйста, дай нам пинка,
Может быть, развлечет нас хоть это.
Целый час я бродил в этом скучном гнезде,
С прусским воинством встретился снова,
И, его наблюдая, я в нем не нашел
Измененья почти никакого.
На шинелях всё тот же пришит воротник,
С ярко-красным, воинственным цветом:
Красный цвет знаменует французскую кровь —
Кернер нам сообщил под секретом.
А народ всё такой же солдат и педант,
В каждом жесте — углов переломы;
Заморожено чванством холодным лицо,
Деревянные те же приемы.
Эти бревна в мундирах с ходулей глядят,
Словно все они вдруг проглотили
Те же самые палки, которыми их
Так недавно еще колотили.
Да! для них фухтеля не исчезли вполне…
Но, внутри себя их сберегая,
Знают верно они, что без тех фухтелей
Жить не может страна дорогая.
Нынче носят, положим, большие усы,
Но что ж нового в том, в самом деле?
В старину прежде сзади носили косу,
Нынче — под носом косы надели.
Вот мне новая форма пришлась по душе —
Стоят, право, похвальной огласки
Шишаки с их булатным, большим острием,
Наподобие рыцарской каски.
Старину с романтизмом напомнит опять
Этот шлем, заостренный как пика,
Он напомнит баронские замки, пиры,
И Фуке, и Ула́нда, и Тика;
Он напомнит рассказы из средних веков,
Знаменосцев в их пышном наряде,
Как они свою верность носили в груди,
А гербы золоченые — сзади.
Он напомнит крестовых походов года,
Меченосцев, турниры, обеты,
Дни, когда ядовитый печатный станок
Не печатал для мира газеты.
Да, на каску я, право, с восторгом глядел.
Ведь, ей-богу, придумано мило:
Королевская выдумка эта для всех
Остроумье свое заявила.
Я боюсь одного: если вспыхнет гроза
И метать свои молнии станет,
То, пожалуй, ваш острый булатный шишак
На себя гром народа притянет.
Каской новой и легкой на случай войны
Вам придется тогда запасаться:
Ведь под тяжкими шлемами средних веков
Мудрено будет бегством спасаться.
На почтамтской стене, я увидел опять,
Ненавистная птица сидела,
И своими глазами она на меня
Ядовито и злобно смотрела.
О! проклятая птица! Когда я тебя
Наконец в свои руки поймаю —
Я из крыльев все перья твои отщиплю
И все когти твои обломаю.
На высоком шесте я тебя посажу,
И, чтоб разом покончить с тобою,
Созову непременно я рейнских стрелков
Развлекаться веселой стрельбою.
И чья пуля зловещую птицу собьет,
Я невольный восторг обнаружу,
И корону и скиптр королевский вручу
Я тому благородному мужу.
Томас Гуд
333. ПЕСНЯ О РУБАШКЕ
В лохмотьях нищенских, измучена работой,
С глазами красными, опухшими без сна,
Склонясь сидит швея, и всё поет она,
И песня та звучит болезненною нотой.
Поет и шьет, поет и шьет,
Поет и шьет она, спины не разгибая,
Рукой усталою едва держа иглу,
В грязи и холоде, в сыром своем углу
Поет и шьет она, спины не разгибая:
«Сиди и шей, шей день и ночь,
Пока петух вдали кричать не станет;
Сиди и шей, шей день и ночь,
Пока хор звезд сквозь крышу не проглянет.
О, лучше б быть рабой у турков мне
И от работы тяжкой задохнуться:
Ведь в их нехристианской стороне
Язычники о душах не пекутся!..
Сиди и шей, шей день и ночь,
Пока твой мозг больной не станет расплываться;
Сиди и шей, шей день и ночь,
Пока глаза твои совсем не помутятся.
Переходи от ластовицы к шву…
Швы, складки, пуговки и строчки…
Работу сон сменил, но словно наяву
Я и в тревожном сне всё вижу шов сорочки.
О вы, которых жизнь тепла так и легка,
Вы, грязной нищеты не ведавшие люди,—
Вы не бельем прикрыли ваши груди,
Нет, не бельем, но жизнью бедняка.
Во тьме и холоде, чужая людям, свету,
Сиди и шей с склоненной головой…
Когда-нибудь, как и рубашку эту,
Сошью сама себе я саван гробовой.
Но для чего теперь я вспомнила о смерти?
Она ли устрашит рассудок бедный мой?
Ведь я сама похожа так — поверьте —
На этот призрак страшный и немой.
Да, я сама на эту смерть похожа.
Всегда голодная, ведь я едва жива…
Зачем же хлеб так дорог, правый боже,
А кровь людей повсюду дешева?
Работай, нищая, не ведая истомы,
Работай без конца! Твой труд всегда с тобой,
Твой труд вознагражден: кровать есть из соломы,
Лохмотья грязные да черствый хлеб с водой,
Прогнивший ветхий пол и потолок с дырою,
Разбитый стул, подобие стола
Да стены голые; казалось мне порою —
С них даже тень моя свалиться бы могла…
Сиди и шей и спину гни,
С работы не своди взор тусклый, утомленный
Сиди и шей и спину гни,
Как спину гнет в тюрьме преступник заключенный.
Сиди и шей — работа нелегка,—
Работай — день, работай — ночь настанет,
Пока разбитый мозг бесчувственным не станет,
Как и моя усталая рука.
Работай в зимний день без солнечного света,
Не покидай иглы, когда настанут дни,
Дни благовонного, ликующего лета…
Сиди и шей и спину гни,
Когда на зелени появятся росинки,
И гнезда ласточки свивают у окна,
И блещут при лучах их радужные спинки,
И в угол твой врывается весна.
О, если б я могла вон там, над головою,
Увидеть небеса без темных облаков,
Увидеть пышный луг с зеленою травою,
Могла упиться запахом цветов —
И белой буквицы и розы белоснежной,—
То этот краткий час я помнила б всегда,
Узнала бы вполне я цену скорби прежней,
Узнала б, как горька бессменная нужда.
За час один, за отдых самый краткий
Неблагодарною остаться я могла ль?
Ведь мне, истерзанной холодной лихорадкой,
Понятна лишь одна безмолвная печаль.
Рыданье, говорят, нам сердце облегчает,
Но будьте сухи вы, усталые глаза,
Не проливайте слез: работе помешает
Мной каждая пролитая слеза…»
В лохмотьях нищенских, измучена работой,
С глазами красными, опухшими без сна,
Склонясь сидит швея, и всё поет она,
И песня та звучит болезненною нотой.
Поет и шьет, поет и шьет,
Поет и шьет она, спины не разгибая,
Рукой усталою едва держа иглу,
В грязи и холоде, в сыром своем углу
Поет и шьет она, спины не разгибая.
Шарль Бодлер