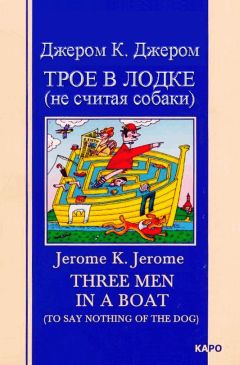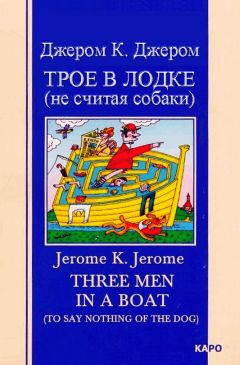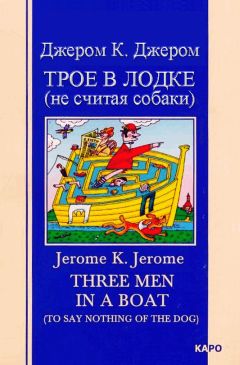Джером Джером - Трое в лодке (не считая собаки)
К этому времени нервы у Джорджа были так взвинчены, что ему уже мерещилось и судебное заседание, и безуспешные попытки растолковать присяжным обстоятельства дела, и всеобщее недоверие, и приговор, осуждающий его на двадцать лет каторжных работ, и смерть его убитой горем матери. Тут он отказался от намерения приготовить себе завтрак, закутался в пальто и просидел в кресле до тех пор, пока в половине восьмого не появилась миссис Гиппингс.
Джордж сказал, что с тех пор никогда не просыпался раньше времени: эта история послужила ему хорошим уроком.
Пока Джордж рассказывал мне свою правдивую повесть, мы оба сидели, завернувшись в пледы. Как только он кончил, я принялся за дело: вооружился веслом и начал будить Гарриса. Я ткнул его всего три раза, но этого оказалось достаточно: он повернулся на другой бок и пробормотал, что сию минуту спустится в столовую, только зашнурует ботинки. Пришлось пустить в ход багор, чтобы напомнить ему, где он находится, и тогда он вскочил, а Монморанси, спавший у него на груди сном праведника, полетел кувырком и растянулся поперек лодки.
Потом мы приподняли брезент, все четверо высунули наружу носы, поглядели на реку и задрожали. Накануне вечером мы предвкушали, как проснемся чуть свет, сбросим пледы и одеяла, скатаем брезент, кинемся в воду и предадимся долгой, упоительной оргии купанья, оглашая воздух восторженными криками. Но вот настало утро, и эта перспектива почему-то представилась нам совсем не такой соблазнительной. Вода казалась слишком мокрой и холодной, а ветер пронизывал насквозь.
— Ну, кто первый? — выдавил из себя Гаррис.
Наплыва желающих не было. Что касается Джорджа, то он решил дело просто: скрылся в лодке и стал натягивать носки. Монморанси невольно начал подвывать, — видимо испытывая глубочайший ужас при одной лишь мысли о купанье. Гаррис же пробурчал, что потом будет чертовски трудно взобраться в лодку. Затем он спрятался под брезент и занялся поисками своих штанов.
Вообще говоря, идти на попятный не в моих правилах, но и нырять мне вовсе не хотелось. Еще, чего доброго, напорешься на корягу или увязнешь в иле. Поэтому я решился на компромисс: выйти на берег и просто обтереться холодной водой. Я взял полотенце, вылез из лодки, подошел к большому дереву и начал карабкаться по суку, нависшему над рекой.
Было зверски холодно. Дул пронзительный ледяной ветер. У меня сразу пропала охота обтираться. Мне захотелось вернуться в лодку и одеться, и я уже собирался это сделать, но, пока я собирался, дурацкий сук подломился, я и мое полотенце с оглушительным всплеском шлепнулись в реку, и я, с галлоном воды в желудке, очутился на середине Темзы раньше, чем сообразил, что, собственно, произошло.
— Боже правый! Старина Джей все-таки решился! — воскликнул Гаррис, и это было первое, что я услышал, когда всплыл на поверхность. — Вот уж не думал, что у него хватит духу! А ты, Джордж?
— Ну, как там, ничего? — крикнул Джордж.
— Восхитительно! — прохрипел я, пуская пузыри. — Вы просто олухи, что не хотите купаться. Ни за что на свете не упустил бы такого случая. Почему вам не попробовать? Будьте мужчинами, решайтесь!
Но убедить их мне не удалось.
Наше одевание ознаменовалось весьма занятным происшествием. Когда я наконец влез в лодку, у меня зуб на зуб не попадал, и я так спешил натянуть рубашку, что впопыхах уронил ее в воду. Я пришел в дикую ярость, особенно когда Джордж разразился хохотом. По-моему, ничего смешного тут не было, и я сказал об этом Джорджу, но он захохотал еще пуще. Я отродясь не видел, чтобы человек так веселился. В конце концов я потерял терпение и сообщил ему, что он полоумный маньяк и жалкий оболтус, но он ржал все громче. И вот, выудив рубашку из воды, я вдруг обнаружил, что рубашка-то вовсе не моя, а Джорджа и что я по ошибке схватил ее вместо своей; тут я впервые оценил комизм положения и теперь уже начал смеяться сам. И чем дольше я смотрел на помиравшего со смеху Джорджа, тем больше веселился и под конец начал хохотать так, что злополучная рубашка опять полетела в воду.
— Что же ты… что же ты… не вытаскиваешь ее? — спросил Джордж, давясь от смеха.
Я так смеялся, что долго не мог произнести ни слова, но потом все-таки мне удалось выкрикнуть:
— Рубашка не моя… это твоя рубашка…
Мне никогда не приходило в голову, что человек может с такой быстротой перейти от необузданного веселья к мрачному негодованию.
— Что?! — заорал Джордж, вскакивая. — Остолоп несчастный! Не можешь ты быть поосторожнее, что ли? Какого черта ты не пошел одеваться на берег? Такому разине не место в лодке! Давай сюда багор!
Тщетно пытался я обратить его внимание на смешную сторону этого происшествия. Джордж порою бывает чертовски туп и не понимает шуток.
Гаррис предложил сделать на завтрак яичницу-болтунью. Он сказал, что сам ее приготовит. Судя по его словам, он был великим специалистом по части яичниц. Он много раз приготовлял их на пикниках и во время прогулок на яхтах. Он был чемпионом по яичницам. Он дал нам понять, что люди, которые хоть раз попробовали его яичницу, навеки теряли вкус ко всякой другой пище, а впоследствии чахли и умирали, если не могли вновь получить это блюдо.
Дошло до того, что у нас потекли слюнки от его рассказов, и тогда мы приволокли ему спиртовку, и сковородку, и все яйца, которые еще не успели разбиться и испакостить содержимое нашей корзины, и стали умолять его приступить к делу.
Ему пришлось немало потрудиться, чтобы разбить яйца; собственно говоря, трудность состояла не в том, чтобы их разбить, а в том, чтобы удержать их при этом на должном расстоянии от штанов и вылить, по возможности, именно на сковородку, а не в рукава. Все же в конце концов несколько яиц каким-то образом попали куда следует, и Гаррису удалось, присев тут же на корточки, взбить их вилкой.
Насколько мы с Джорджем могли судить, это была мучительная работа. Стоило Гаррису приблизиться к сковородке, как он тотчас же обжигался, ронял все, что держал в руках, и принимался плясать вокруг спиртовки, дуя на пальцы и ругаясь последними словами. Оглядываясь на него, мы с Джорджем всякий раз видели, как он проделывает эти сложные операции. Сперва мы даже приняли их за какие-то особые приемы кулинарного искусства.
Мы ведь понятия не имели о яичнице-болтунье и считали, что это какое-нибудь блюдо краснокожих индейцев или туземцев Сандвичевых островов и что его всегда готовят в сопровождении заклинаний и ритуальных плясок. Монморанси тоже заинтересовался, подошел и сунул нос в сковородку, но его тут же обожгло брызгами масла, и он, в свою очередь, принялся плясать и браниться. В общем, это было одно из самых интересных и волнующих зрелищ, какие я когда-либо видел. Мы с Джорджем страшно жалели, что оно так быстро кончилось.
Ожидания Гарриса не вполне оправдались. Плоды его трудов были так жалки, что о них не стоит и говорить. Из шести попавших на сковородку яиц получилась одна чайная ложка подгоревшего, неаппетитного месива.
Гаррис сказал, что во всем виновата сковорода. Он уверял, что болтунья получилась бы куда вкуснее, будь у нас газовая плита и таз для варенья. И мы решили не готовить этого блюда, пока не обзаведемся упомянутыми кухонными приборами.
К тому времени, когда мы кончили завтракать, солнце уже стало припекать, ветер утих и утро, казалось, решило оправдать самые смелые наши надежды. Почти ничто вокруг нас не напоминало о девятнадцатом веке; глядя на реку, залитую лучами утреннего солнца, мы легко могли забыть о событиях, протекших с достопамятного июньского, утра 1215 года, и вообразить себя теми молодыми английскими йоменами в Домотканой одежде, с кинжалом за поясом, которые собрались тогда на берегу, чтобы собственными глазами посмотреть, как в английскую историю будет вписана величественная страница, смысл которой стал ясен простому народу лишь четыре с лишним столетия спустя, благодаря некоему Оливеру Кромвелю, глубоко изучившему ее.
То было прекрасное летнее утро: солнечное, теплое и тихое. Но в воздухе ощущался трепет надвигающихся событий. Король Джон заночевал в Данкрофт-холле, после того как накануне маленький городок Стэйнз с утра до ночи оглашался лязгом воинских доспехов, стуком конских копыт по камням мостовой, окриками военачальников, грубой бранью и забористыми шутками бородатых лучников, копейщиков, алебардщиков и говорящих на непонятном языке иноземцев, вооруженных пиками.
Все новые и новые группы рыцарей и сквайров в нарядных, но запыленных и покрытых дорожной грязью плащах въезжали в город. Весь вечер напуганные горожане угодливо распахивали двери своих домов перед грубыми солдатами, требующими ночлега и пищи, и плохо приходилось дому и его обитателям, если что-нибудь оказывалось не по вкусу гостям, ибо в те бурные времена меч был судьей и обвинителем, истцом и палачом, и он расплачивался за все, что брал, только тем, что щадил, если заблагорассудится, жизнь дающего.