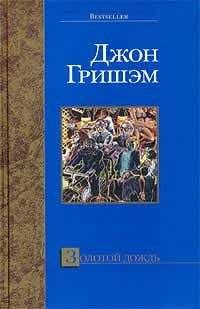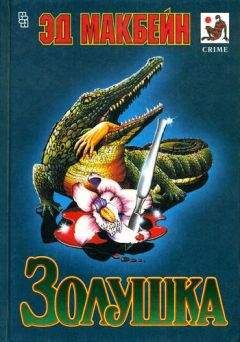Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде
И пока стоит эта земля – не нашлось во всем мире народа или полководца, сумевшего хоть раз в открытом и честном бою победить армию народа, разговаривающего на языках, на которых писали Шевченко, Гоголь и Пушкин…
Армию этого народа продавали цари, бездарные генералы заводили в Мазурские болота, оставляя без оружия и снарядов, сажали матросов на разбитые корабли, которые сами тонули под Цусимой, русские солдаты плакали от злости, оставляя развалины гордого Севастополя, и с голыми руками еще и еще раз кидались на врага и умирали проданными, но никогда, за всю историю мира – не умирали побежденными!..
И по сю пору висят на стене Казанского собора в Ленинграде ключи от Берлина, Парижа, Праги и многих других городов просвещенной Европы, и пока стоит земля, не побывали ключи от Москвы в руках неприятеля…
Их не дождался и Наполеон на Поклонной горе, а как привел войско в шестьсот тысяч – так и увел шестнадцать!..
Так гудите ж об этом! Гудите правдиво, от сердца, во всю мощь, во весь голос! Но только не забывайте «Шуру» – буксир с Каспийского моря. У «Шуры» от другого парохода гудок был. Она, что называется, в фальшивую дудку гудела…
И от ее гудка – на все Каспийское море – был один только смех!..
1939
Стыд идет!
Осенний возраст
Нет, нет! Не знаю, как другие, а я своим возрастом даже доволен. В осенние годы человек чувствует себя словно путник, взобравшийся на высокую гору. Дошел это он, значит, до вершины; уже отдыхая, разглядывает, как внизу копошатся разные там молодчики, лезут, пыхтят, торопятся… А он им уже сверху только покрикивает: «Давай, давай, ребята, не зевай, подтягивайся!»
Никогда, никогда не сравнится весна с мудростью и величавым спокойствием осени. Тут уже начинаешь ценить часы и минуты и на предложение любимого существа пойти, например, на берег реки, полюбоваться луной или облаками – отвечаешь просто: «А зачем? Сыро же! Туман! Простуда!»
С милым рай и в шалаше – это же выдумали поэты! А какой же в шалаше рай? Рай – это квартира в корпусе «б», три комнаты, ванна, газ, персональная машина, соответствующий оклад содержания. Это рай! А то что же весной-то: сирень, ландыши, незабудки, сплошные цветы! А ну-ка, покормите свое любимое существо цветами, оно же вам голову отгрызет! Любимое существо котлет требует! Ему бефстроганы подавай! Нет, нет – поэта из меня не получится. Мудрый возраст, осенний…
И кажется, что кругом сейчас многое способствует твоему благодушию. Наряду с произведениями, которые куда-то зовут, будоражат, есть и такие, что иной раз книжечку развернешь – душа радуется. Никаких переживаний, никаких трагедий.
Зашел тут на выставку одного художника – опять замечательно! Мудрый человек! Не то что другие: войну изображают, строительство. Все это как-то волнует – не успокаивает…
У этого – ничего подобного. Нарисованы коровки, петушки, лошадки, портретики… Великолепно!
Вчера в театр на «Машеньку» Афиногенова пошел без калош. Верите ли, ноги промочил: зрители так плачут от умиления, что в зале – слез по щиколотку. И главное – все солидно: профессор, внучка. В оперетте – Сильвочка, Веселенькая вдова. Прекрасно! Чувствуешь, что успокоился не ты один. Осенний возраст, очевидно, у многих…
И не могу сказать, сколько бы длилось это мое душевное равновесие, очень поддерживаемое некоторыми представителями искусства и литературы, как вдруг недавно ночью было мне странное сонное видение: явился будто бы передо мной – Стыд.
Я надеюсь, что присутствующие помнят, конечно, что такое именно Стыд? Я-то лично, честно говоря, как-то запамятовал: некогда. Нагрузки разные, то, се – как говорится, не до Стыда. Ну а тут только я, что называется, смежил веки, смотрю – открывается дверь, входит Стыд.
И ведь вот что значит осенний-то возраст! Раньше бы я, глядишь, заволновался, забеспокоился – как, что, почему, мол, именно ко мне, – а тут никакого впечатления. В чем дело, думаю, в профсоюзе я состою, в МОПРе тоже, на заем подписание скажу, чтобы ах, но в норме. По дороге, думаю, зашел, вероятно. Шел стыдить какого-нибудь сукинова сына – и завернул ко мне. Ясно!
«Присаживайтесь, говорю, товарищ Стыд, отдыхайте! Работки-то у вас, вероятно, бездна. Жулики разные там, взяточники, прогульщики. Небось беспрерывно надо являться, напоминать?»
А Стыд вдруг так смотрит на меня и говорит: «А зачем же мне к ним-то являться? К ним, вероятно, прокурор является – это его сфера…» – «Я понимаю, говорю, конечно, что вы представитель более духовной морали. Так сказать, нечто вроде бывших заповедей господних: дескать, «не укради», «не прелюбосотвори», «не свидетельствуй на друга своего ложно»…
Стыд опять так смотрит на меня и говорит: «Заповеди, как и поговорки, есть разные. Некоторые люди иногда говорят: «Стыд не дым – глаза не выест…»
Я говорю: «Да, да! устарело все это – не можно. Я тут, было, одному приятелю напомнил эту заповедь «не укради», а он мне в ответ: «Вы что, говорит, с ума спятили? А чем я жить буду?» Или вот, говорю, другой случай. Композитор у меня есть знакомый. Молодой, талантливый, но не то, что на руку, а, как говорится, на ноты нечист. Возьмет музыку какого-нибудь классика, чуточку переделает и за свое выдает. Даже стишок о себе сложил очень забавный (по городу ходит)… как это…
«Занятная штуковина,
Доходная статья,
Романсик-то Бетховена,
А музыка моя».
Ну, я его пожурил как-то – дескать, братец, нехорошо! А он мне в ответ: «Что ж, говорит, нехорошего-то? Наоборот, все довольны. Так-то я, молодой, неизвестно еще что напишу – хорошо или плохо, а тут-то уж как ни верти – Бетховен! Не подкопаешься…»
Так что, говорю, товарищ Стыд, пожалуй, и вам времечко отдохнуть. Все у нас прекрасно, все сделано, вопросы все решены, полная идиллия!»
Смотрю, Стыд уже ничего не говорит. Смотрит так на меня и молчит.
Я думаю, пересолил я несколько, наверно. Надо кое-какие уступочки сделать. «Конечно, говорю, есть некоторые и недостатки. Ну, скажем, в семейном вопросе… У меня сейчас с соседями дискуссия. Не установлено, сколько можно регистрировать через загс это самое, как говорится, «не прелюбосотвори» – мнения расходятся».
Смотрю, Стыд молчит. Я так опять соображаю и говорю: «Ну, есть отдельные недочеты в образовании юношества, но опять, с моей точки зрения, – не страшно. Да вот, говорю, я вам просто продемонстрирую». Стучу в стенку, мальчик у меня соседский Коля – десятиклассник. Я говорю: «Колечка, иди сюда, покажи старшему товарищу, какой ты ученый. Расскажи товарищу, ну кто такой, скажем, Суворов?» А Колечка вдруг отвечает: «Как кто – Черкасов, Петр Великий – Симонов, Александр Невский – опять Черкасов. Вот Минин и Пожарский – не знаю кто, еще картины не видел!»
Я так уже несколько смущенно спрашиваю: «Ну а кто такой Иван Грозный?» – «Да вы, – Колечка говорит, – с ума сошли? Этого еще никто не знает. Еще и сценарий-то не написан. Сценаристы сами, поди, еще не решили – кто он…»
Я говорю: «Колечка, но ведь историю не только по киногероям изучать надо. Принеси, говорю, тетради – мы с товарищем посмотрим». Приносит он тетради, разворачиваю я – читаю: «Разбор Евгения Онегина. Онегин вел роскошную жизнь и каждый день пахнул одеколоном. Пушкин и Грибоедов показали русскую женщину, но в более расширенном виде…»
Я думаю: может быть, об Онегине так только. Перевертываю, читаю дальше: «Некрасов одной ногой стоял в настоящем, а другой приветствовал грядущее будущее…»
Я говорю: «Спасибо, Колечка, иди, говорю, домой. Что-то, говорю, товарищ Стыд, мне как-то не по себе. Нездоровится, что ли?»
А Стыд мне в ответ: «Вы, говорит, одевайтесь – пройдемся; может быть, вам на улице лучше станет…»
Встал я, конечно, начал одеваться и чувствую, что со мной что-то странное происходит. Костюм у меня – наш, москвошвеевский. В ателье мод сшил. Ну, сами понимаете, – спешка, работы у них много. Как сшито, что сшито – внимания не обращал, а тут вдруг, при Стыде-то, надеваю его и чувствую, что краснею. Стыдно мне. И ведь не я сам шил костюм-то, а мне совестно. И опять думаю, критики-то мои как же? Скажут, тему тривиальную взял: штаны, Москвошвей… Но, думаю, на критиков-то наплевать: Стыд-то ведь у меня, у критиков Стыда нету. Надо, думаю, как-нибудь внимание гостя отвлечь. Говорю: «Товарищ Стыд, пока я одеваюсь, вы займитесь, вот книжечки, говорю, полистайте». Подвожу к полочке с книгами, а сам думаю: батюшки, зачем я это делаю, но ведь со стыда сгоришь. Шолоховский «Тихий Дон» – он уже, наверное, читал, стихи Маяковского ему не попадутся. Напорется на переделку «Дворянского гнезда» для театра – со стыда же в окошко выкинешься. Я говорю: «Впрочем, товарищ Стыд, может быть, лучше вы радио послушаете?» Стыд и говорит: «Нет, это слушать мне преждевременно, а вот если позволите (на патефон показывает), я лучше пластиночку заведу». Я кричу: «Нет! У патефона пружина сломана». Говорю это, а сам краснею, потому что пружина-то цела, разумеется, но, думаю, дорвется он до пластинок, по вкусу моему собранных, – со стыда сгоришь. Вкус-то мой известно какой – джаз, цыганщина: романсы о том, как она ушла, ему изменила, потом обратно вернулась, опять изменила, а он узнал и тоже с кем-то утешился. И все это под музыку – ну срам, срам! Другого же слова не подберешь!