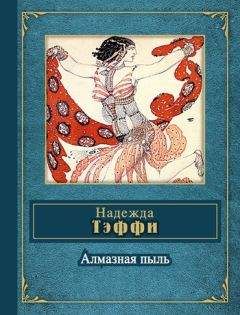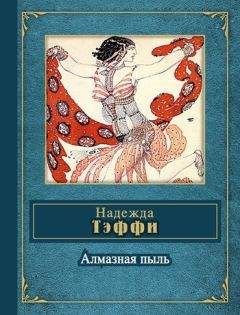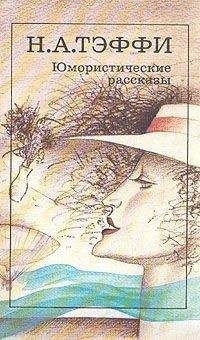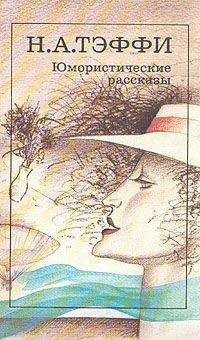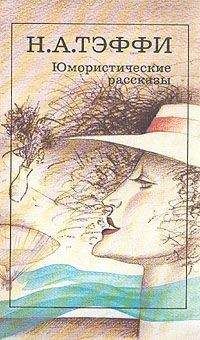Надежда Тэффи - 224 Избранные страницы
— Забавные старухи! — сказала Вава фон Мерзен, направив на веселую компанию свой лорнет.
— Да, — восторженно подхватил Гогося. — Счаст-ливый возраст. Им уже не нужно сохранять линию, не нужно кого-то завоевывать, кому-то нравиться. При наличии денег и хорошего желудка это самый счастливый возраст. И самый беспечный. Больше уже не надо строить свою жизнь. Все готово.
— Посмотрите на эту, на главную, — сказала Муся Ривен, презрительно опустив уголки рта. — Прямо какая-то развеселая корова. Так и вижу, какая она была всю жизнь.
— Наверно, пожито отлично, — одобрительно сказал Гогося. — Живи и жить давай другим. Веселая, здоровая, богатая. Может быть, даже была недурна собой. Сейчас судить, конечно, трудно. Комок розового жира.
— Думаю, что была скупа, жадна и глупа, — вставила Вава фон Мерзен. — Смотрите, как она ест, как пьет, чувственное животное.
— А все-таки кто-то ее, наверное, любил и даже женился на ней, — мечтательно протянула Муся Ривен.
— Просто женился кто-нибудь из-за денег. Ты всегда предполагаешь романтику, которой в жизни не бывает.
Беседу прервал Тюля Ровцын. Он был из той же периферии круга, что и Гогося, поэтому и сохранил до шестидесяти трех лет имя Тюли. Тюля тоже был мил и приятен, но беднее Гогоси и весь минорнее. Поболтав несколько минут, встал, огляделся и подошел к веселым старухам. Те обрадовались ему, как старому знакомому, и усадили его за свой стол.
Между тем программа шла своим чередом.
На эстраду вышел молодой человек, облизнулся, как кот, поевший курятинки, и под завывание и перебойное звяканье джаза исполнил каким-то умоляюще-бабьим воркованием английскую песенку. Слова песенки были сентиментальны и даже грустны, мотив однообразно-уныл. Но джаз делал свое дело, не вникая в эти детали.
И получалось, будто печальный господин плаксиво рассказывает о своих любовных неудачах, а какой-то сумасшедший разнузданно скачет, ревет, свистит и бьет плаксивого господина медным подносом по голове.
Потом под ту же музыку проплясали две испанки. Одна из них взвизгнула, убегая, что очень подняло настроение публики.
Потом вышел русский певец с французской фамилией. Спел сначала французский романс, потом на "бис" — старый русский:
Твой кроткий раб, я встану на колени.
Я не борюсь с губительной судьбой.
Я на позор, на горечь унижений -
На все пойду за счастье быть с тобой.
— Слушайте! Слушайте! — вдруг насторожился Гогося. — Ах, сколько воспоминаний! Какая ужасная трагедия связана с этим романсом. Бедный Коля Изубов... Мария Николаевна Рутте... граф...
Когда мой взор твои глаза встречает,
Я весь мучительным восторгом обуян, -
томно выводил певец.
— Я всех их знал, — вспоминал Гогося. — Это романс Коли Изубова. Прелестная музыка. Он был очень талантлив. Морячок...
...Так благостные звезды отражает
Бушующий, бездонный океан... -
продолжал певец.
— Какая она была очаровательная! И Коля, и граф были в нее влюблены как сумасшедшие. И Коля вызвал графа на дуэль. Граф его и убил. Муж Марии Николаевны был тогда на Кавказе. Возвращается, а тут этот скандал, и Мария Николаевна ухаживает за умирающим Колей. Граф, видя, что Мария Николаевна все время при Коле, пускает себе пулю в лоб, оставя ей предсмертное письмо, что он знал о ее любви к Коле. Письмо, конечно, попадает в руки мужа, и тот требует развода. Мария Николаевна страстно его любит и буквально ни в чем не виновата. Но Рутте ей не верит, берет назначение на Дальний Восток и бросает ее одну. Она в отчаянии, страдает безумно, хочет идти в монастырь. Через шесть лет муж вызывает ее к себе в Шанхай. Она летит туда, возрожденная. Застает его умирающим. Прожили вместе только два месяца. Все понял, все время любил ее одну и мучился. Вообще это такая трагедия, что прямо удивляешься, как эта маленькая женщина смогла все это пережить. Тут я ее потерял из виду. Слышал только, что она вышла замуж и ее муж был убит на войне. Она, кажется, тоже погибла. Убита во время революции. Вот Тюля хорошо ее знал, даже страдал в свое время.
Бушу-у-ющий бездонный океан.
— Замечательная женщина! Таких теперь не бывает.
Вава фон Мерзен и Муся Ривен обиженно молчали.
— Интересные женщины бывают во всякую эпоху, — процедила наконец Вава фон Мерзен.
Но Гогося только насмешливо и добродушно похлопал ее по руке.
— Посмотрите, — сказала Муся, — ваш приятель говорит про вас со своими старухами.
Действительно, и Тюля, и его дамы смотрели прямо на Гогосю. Тюля встал и подошел к приятелю, а главная старуха кивала головой.
— Гогося! — сказал Тюля. — Мария Николаевна, оказывается, отлично тебя помнит. Я ей назвал твое имя, и она сразу вспомнила и очень рада тебя видеть.
— Какая Мария Николаевна? — опешил Гогося.
— Нелогина. Ну — бывшая Рутте. Неужто забыл?
— Господи! — всколыхнулся Гогося. — Ведь только что о ней говорили!.. Да где же она?
— Идем к ней на минутку, — торопил Тюля. — Твои милые дамы простят.
Гогося вскочил, удивленно озираясь.
— Да где же она?
— Да вот, я сейчас с ней сидел... Веду, веду! — закричал он.
И главная старуха закивала головой и, весело раздвинув крепкие толстые щеки подмазанным ртом, приветливо блеснула ровным рядом голубых фарфоровых зубов.
Жених
По вечерам, возвратясь со службы, Бульбезов любил позаняться.
Занятие у него было особое: он писал обличающие письма либо в редакцию какой-нибудь газеты, либо прямо самому автору не угодившей ему статьи.
Писал грозно.
"Милостивый государь!
Имел вчера неудовольствие прочесть вашу очередную брехню. В вашем "историческом" очерке вы пишете: "От слов Дантона словно электрический ток пробежал по собранию".
Спешу довести до вашего сведения, что во время Французской революции электричество еще не было открыто, так что электрический ток никак не мог пробежать. Это не мешало бы вам знать, раз вы имеете дерзость и самомнение браться за перо и всех поучать.
Илья Б -".
Или такое:
"Милостивый государь, господин редактор!
Обратите внимание на статьи вашего научного обозревателя. В номере шестьдесят втором вашей уважаемой газеты сей развязный субъект со свойственной ему беззастенчивостью рассуждает о разуме муравья. Но где же в таком случае у муравья череп? Я лично такого не видал, хотя и приходилось жить в деревне. Все это противоречит здравому смыслу.
Читатель, но не почитатель
Илья Б -".
Доставалось от него не только современным писателям, но и классикам.
"Милостивый государь, господин редактор, — писал он. — Разрешите через посредство вашей уважаемой газеты обратить внимание общественного мнения на писания прославленного Льва Толстого. В своем сочинении "Война и мир", во второй части, в главе четвертой, знаменитый граф пишет:
"Алпатыч, приехав вечером 4-го августа в Смоленск, остановился за Днепром в Гаченском предместье на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов тридцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный, сорокалетний мужик, с толстыми губами и т. д.".
Итак — заметьте: сорокалетний мужик тридцать лет тому назад купил рощу и начал торговать. Значит, мужику было тогда ровно десять лет. Считаю это клеветой на русский народ. И почему если это выдумал граф Толстой, то все должны преклоняться, а если так напишет какой-нибудь неграф и нелев, так его и печатать не станут.
Это недемократично.
И. Б.".
Письма эти тщательно переписывались, причем копию Бульбезов оставлял себе, нумеровал и прятал.
К занятиям своим относился он очень серьезно и никогда не позволял себе потратить вечер на синема или кафе, как делают это всякие лодыри.
— Пока есть силы работать — работаю.
Как это случилось — неизвестно.
Уж не весна ли навеяла эти странные мысли?
Впрочем, пожалуй, весна здесь ни при чем.
Потому что если бы весна, то, конечно, любовался бы Бульбезов на распускающиеся деревья, на целующихся под этими деревьями парочек, на букетики первых фиалок, предлагаемых хриплыми голосами густо налитых красным вином парижских старух. Наконец, из окна его комнаты, если открыть его и перегнуться вправо, — можно было увидеть луну, что для влюбленных всегда отрадно. Но Бульбезов окна не открывал и не перегибался. Бульбезову не было до луны буквально никакого дела.
Началось дело не с луны, и не с цветов, и вообще не с пустяков. Началось дело с оборванной пуговицы на жилетке и продолжилось дело дырой на колене, то есть не на самом колене, а на платье, его обтягивающем и покрывающем. Короче говоря — на штанине.