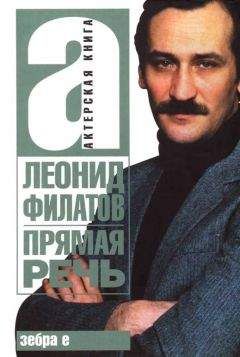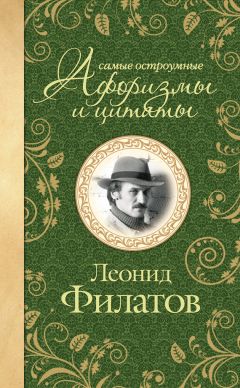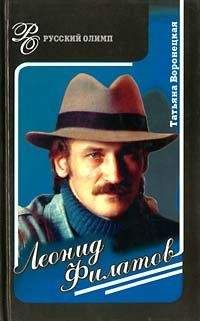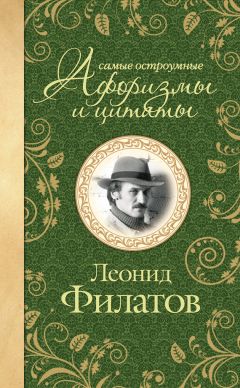Леонид Филатов - Филатов Леонид Алексеевич
А теперь поэт, чуть ли не каждую ночь, поджав под себя левую ногу (и не просто поджав, а практически сидя на ней) и закуривая через каждые пять минут новую сигарету, пишет стихи. То есть в максимально неудобной для человека позе, в экологическом кошмаре, который сам же себе и создает, пишет этот ненормальный. Хотя, впрочем, где вы видели нормальных поэтов? Нет, конечно, поэт с виду — человек нормальный, но в нем обязательно есть что-то еще, невидимое миру, что-то такое, что наделяет его нужной дозой шизофрении — безусловно необходимой для творческого угара. Нормальный поэт — это ненормально, неправильно, так же, как, скажем, сентиментальный бизнесмен. Забегая вперед, скажу: как вы думаете, потом что-нибудь изменилось? Что вы! Каждую ночь, сидя на своей бедной левой ноге и непрерывно куря, Филатов пишет очередную пьесу или сказку в стихах. Сигареты — это вообще разговор особый. Уговаривать Филатова бросить курить — бесполезно, бессмысленно; глупо ведь стоять, предположим, перед заводской трубой и уговаривать ее не дымить так много. Когда он пришел в сознание после операции, первое, что он сказал, было знаете что?.. Вы правильно догадались: он попросил именно это. И кто-то из врачей без звука, без намека даже на возражение протянул ему сигарету, а другой врач, улыбаясь, — зажигалку.
Так вот, сидит он в комнате № 39, а чаще — на кухне, где ночью нет никого, посреди мусора, картофельной шелухи и окурков, своих и чужих, и иллюстрирует собой знаменитую ахматовскую строчку: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи…» и так далее. Причем стихи пишутся удивительно красивым почерком. Казалось бы, в таких условиях и почерк должен быть неровным, небрежным, неразборчивым, но нет! Каллиграфические буковки вырисовывает его рука, будто старинный писарь составляет прошение на высочайшее имя. А может, это и есть прошение на самое высочайшее имя. чтобы его, как он считает, «стишки» превратились в стихи — в диковинный язык, на котором изъясняется душа, в одно из средств доставки чувства и ума от человека к человеку, а также хрупкий мост между небом и землей. И он пишет, выводит такие красивые буковки, что их даже жалко зачеркивать, но он зачеркивает, еще и еще, думает, опять пишет и снова зачеркивает, опять закуривает и снова пишет… Я нетерпеливо жду, но знаю, что торопить или заглядывать через плечо, что он там уже написал, нельзя, это — табу. Тоже курю и жду: сейчас, уже скоро, он закончит, и наступит моя очередь сочинять музыку к тому, что он мне прочтет. И если получится, то будет сегодня новая песня, точнее, не сего-дня, а сей ночью. И той же ночью будет ее премьера, вполголоса, на кухне, для одного-единственного слушателя и соавтора — Леонида Филатова. Гитара лежит на кровати и тоже ждет, когда он допишет, тоже вибрирует девушка, трепещет вся…
Первая наша песня была, конечно же, про любовь. А про что же еще, странные вы какие… Все, все про нее, про любовь: про типичное поражение разума — от слепого темперамента. Разум почти всегда слабоват и беспомощен перед острыми атаками сердечных мук. Вообще драматизм, тотальное несчастье, неразделенность или же невозможность соединения — все это множество «не» — главное оружие любви в ее непрекращающейся и успешной борьбе против логики и спокойствия. Так и здесь: любовь поэта (во всяком случае, на данном этапе) была неудачной, неразделенной, а значит — несчастной. Ну не счастливой же ей быть в самом деле, когда тебе восемнадцать! К тому же короткое и слишком простое счастье разделенной любви и даже безобидно-банальное благополучие — неважный двигатель для творчества. Так рождается песня «Ночи зимние», и студеный надрыв ее куплетов несется по ночным коридорам общежития:
Виталий Шаповалов показал автору в общежитии первые три аккорда на семиструнке, и этого оказалось достаточно, чтобы душа у автора запела и выяснилось, что он может сам сочинять мелодии. Ему иногда было достаточно даже балалайки. В реквизите Щукинского училища имелась одна. Однажды, перестроив три балалаечные струны, как первые три струны на гитаре, и воображая себе, что держит в руках банджо, он сочинит в сопровождении этого треугольного банджо мелодию к новым стихам Филатова «Акробат». «Жизнь у акробата трудновата» — с большим энтузиазмом поется и с не меньшим — слушается, а уж припев: «Соленый пот не для господ, моя галерка в ладоши бьет» — подхватывается обычно всеми сидящими и стоящими рядом, и, значит, песня обещает стать популярной хотя бы в театрально-цирковой среде.
Ну а «Оранжевый кот», или по-другому — «Цветная Москва», принесет авторам не вполне оправданный успех уже в масштабах города. Произведение, на сочинение которого авторы затратили аж минут пятнадцать, поется потом во всех вузах Москвы, и это — один из непостижимых для меня секретов успеха. Почему те песни, которые мы с Леней считали серьезными и заслуживающими внимания, не знает никто, а простенькую песенку «Оранжевый кот» знают?.. Кажется, мы с Филатовым даже стеснялись слегка того успеха, который пришелся на ее долю. Она ведь стала в каком-то смысле народной, чем-то вроде городского студенческого фольклора.
Стали «народными» и некоторые другие наши песни. Отделившись от авторов, они отправились в свободный полет и стали жить своей жизнью. Свободны — значит, ничьи. Персонально — ничьи. Песни всех и для всех. Общие. А значит — народные! Ну и слава богу! Потому что если разобраться, если очистить восприятие от мелкого мусора тщеславия, поймешь одну простую вещь: если ты лично дал жизнь хоть одной «народной» песне, то уже не зря топтал землю и коптил небо, и пусть она там летает себе без фамилий. А ты будешь знать — но спокойно, скромно, дома! — что ничего «народного» не бывает, что народ персонифицирован и за каждой частушкой стоят конкретный Иванов, который ее придумал, и Сидоров, который дополнил…
Противно только, когда твою песню кто-то специально присваивает, полагая, что если она «народная», то этот абстрактный народ с него никогда не спросит. Хотя и это тоже скорее забавно, чем неприятно. Один очень известный певец пел нашего с Леней «Полицая»; пел в ряду своих песен, слова и музыку к которым сам написал; авторов «Полицая» он и не упоминал, потому что: а зачем? Поэтому песня эта как бы автоматически, сама собой воспринималась как его новое произведение. Это было тем более удивительно, что к этому времени я ее уже вовсю исполнял в оркестре Утесова. Но на вопрос, зачем, мол, он это делает (ведь мог бы в конце концов объявлять хотя бы автора стихов), он посмотрел этак наивно, чуть наивнее, чем следовало для правды, и так стереотипно и ответил: «А я думал, эта песня народная».
Некоторые наши песни мало того, что стали жить своей жизнью без родителей, но даже обросли своими легендами.
Почему-то в студенческие годы из еды Филатов больше всего ценил рыбные палочки и бело-розовую пастилу, расфасованную такими прямоугольными брусочками, то есть самые дешевые, непритязательные и даже несколько оскорбительные для гурмана продукты. Это загадочно… Быть может, эти палочки и брусочки были неким фаллическим символом, ироническим предзнаменованием того периода, когда разухабистая журналистика приклеит ему ярлык секс-символа, супермена и наш доверчивый народ поверит, несмотря на очевидную субтильность данного «субъекта Федерации». На это сам Филатов реагировал с комическим ужасом: «Что они, с ума посходили, что ли?! Я ведь даже не на каждом пляже рискую свое тело показать». Однако если уж тебя народ назначил секс-символом, то сиди тихо, не сопротивляйся, это скоро пройдет.