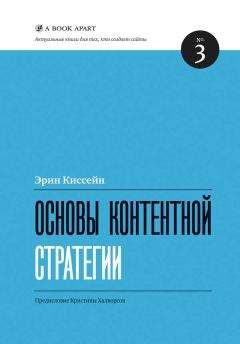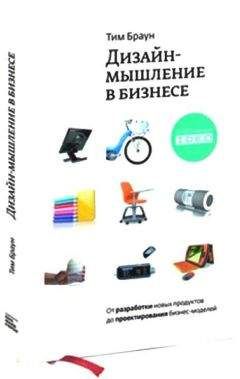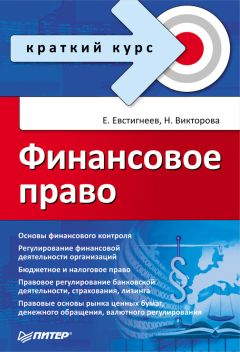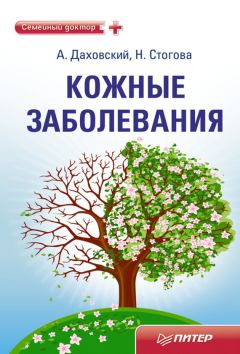Русская фольклорная демонология - Рябов Владимир

Леший. Рисунок Евгения Праведникова.
© Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемское музейное объединение»
В одной из быличек леший обращает похищенную женщину в собаку, она возвращается домой неузнанной и только потом принимает человеческое обличье [189]. Такой сюжетный поворот напоминает рассказы об оборотнях (см. главу «Оборотень»).
Вьюшкова была одна, бабуся. Это с ей по молодости было. Пришла она с поля и пошла за телятами. Навстречу кум. Она ему:
— Подвез бы ты меня до леса. Телят ищу.
— Садись, кума.
Она села и сорок дён проездила.
Пропала и пропала. Уж на мужика [мужа — В. Р.] грешить стали, не убил ли: оне с ём шибко худо жили.
И вот одна бабушка молола гречуху на мельнице, видит: собака бегат, а глаза у нее разным огням горят. И вроде в дом этой бабы, котора потерялась-то, забежала.
Старуха к попу. Тот давай молебен служить, икону подымать. Потом сделал святу воду и избу эту окропил.
Когда дверь открыли, увидели: эта баба вничь лежит. Потом отошла. Три дни не разговаривала, а потом рассказала.
— Я, — говорит, — у лесного и жила. Он водил меня. А потом собакой сделал и отпустил. Я прибежала, — говорит, — в деревню, к маме в кухню заскочила. А мама заругалась: «Каку тут собаку чёрт привязал!» — Меня сковородником ударила. Она шибко ругалась и — ишо в девках я была — как-то по-страшному, вроде «леший забери», меня выругала.
Вот лесной ее и водил [190].
После возвращения от лешего человек «дичает», какое-то время не разговаривает [191] или даже сходит с ума [192]. Впрочем, некоторые похищенные становятся знахарями и знахарками, обучаются ворожбе (например, ищут пропавшие вещи) [193]. Согласно одному из свидетельств, девушки, побывавшие у лешего («лесные девки»), теряют свои способности после выхода замуж [194].
Считается, что леший может вступать в связь с женщинами, которых увел или похитил, чьи мужья в отлучке.
Девушек лешие могут похищать, так же как и детей. Девушек они берут себе в жены. Берут в жены и женщин, живущих распутно. За вдовами и замужними женщинами, у которых мужья в отлучке, лешие любят ухаживать. Тогда они делаются добрыми и ласковыми, приносят гостинцев и угощают их, но их гостинцы не хороши — не что иное как лошадиный помет [195].
В вологодской быличке леший приходит к бабе, привлеченный произнесением своего имени, и сожительствует с ней: «как только баба ляжет спать, вдруг труба вылетает! Леший в избу и на бабу! Ну, дак она и помаялась, харчит, нани [даже — В. Р.] пена у рта, а сама в это время ничево не понимает, как дурная!» [196]
В северных и центральных областях России некоторые функции лешего обусловлены его статусом лесного хозяина. Эта тенденция становится заметнее по мере продвижения с юго-востока на северо-запад: такой набор функций нехарактерен для полесского лесовика, однако очень хорошо проработан в фольклоре Русского Севера [197]. Для Полесья и южных областей России леший зачастую — это живущий в лесу чёрт, а не опекун леса и распорядитель его богатств. Следует сказать, что мифологические представления о духах — хозяевах местности, которые владеют лесным зверьем, помогают охотнику на промысле и наказывают за неправильное поведение в лесу, встречаются и у северо-восточных соседей русских — финно-угорских народов (например, у народа коми) [198]. Отсутствие развитой мифологии «хозяев» на юго-западе и у других восточных славян и одновременно ее расцвет на Русском Севере позволяют предположить, что подобные представления в русском фольклоре являются финно-угорским заимствованием.
Леший «бережет и сторожит лес» [199], следит за порядком. Окрикивает мальчишек: «Зачем так делаете неладно?», если они «неправильно» собирают грибы [200], грозит человеку за то, что он имеет привычку хлестать кнутом по кустам и деревьям [201], заставляет блуждать по лесу бабушку с внуком за то, что внук сломал молодое дерево [202], и т. п.
Леший также владеет стадами диких животных, «зверя да птицу пасет» [203]. В одной из быличек леший является во главе стада из волков, медведей и лис, просит у мужика, заночевавшего в лесу, шаньгу (пирог) и кормит ею своих зверей [204]. Отсутствие или обилие животных в лесу, массовые миграции белок или зайцев могут объясняться тем, что леший проиграл в карты, и теперь другой хозяин перегоняет выигранные стада на новое место.
На солонцах охотились с дедушкой.
И вот все было, потом — раз! — год-два нет зверя. Дедушка говорит:
— Ну, Михаил, хозяин наш проигрался. Когда у нас выиграт, придут опеть звери. Зверя другой хозяин угнал в другу падь. (Вроде в карты проигрался — так уже надо понять.) Но выиграт, ничё…
Вот год-два нету: или они отходят, или чё ли? Глядишь, потом в этим же месте опеть начинают ходить звери.
— Паря, выиграл, — говорит, — пошли… [205]
Как хозяин лесных зверей, леший является охотникам, распоряжается удачей на промысле. Леший может напугать тех, кто пошел на охоту в неурочное время, запрещает стрелять в определенных животных [206], предсказывает неудачу или, напротив, обильный промысел [207]. Порой благодаря лешему добыча идет прямо в руки: в трубу лесной избушки фонтаном сыплются белки и соболя [208], под окном оказывается стая лисиц [209]. Однако такой чудесной добычей нужно еще суметь воспользоваться: в пригнанных лисиц непременно выстрелить, у белок и соболей обрубить лапки или коготки. В противном случае леший, недовольный тем, что его труды пропали даром, может задавить нерасторопного добытчика.
Чтобы леший помогал, ему следует поднести пасхальное яичко [210] или оставить на пне табак: «если лесной вынюхает, то будет богатый лов» [211]. В одной из историй охотник заключает с лешим договор, подписанный глухариным пером и собственной кровью [212]. Однако человек, вступивший в сделку с лешим, грешит, попадает во власть нечистого и стремится отделаться от него [213]. О договоре никому нельзя говорить, иначе леший будет мстить [214].