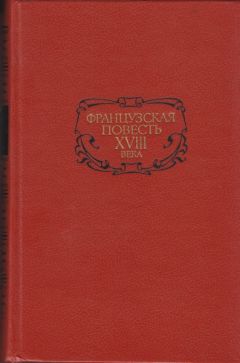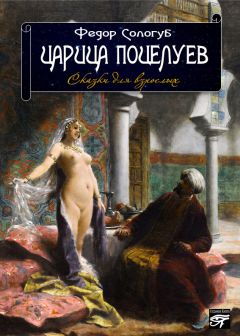Франсуа Фенелон - Телемак
Тромофил и Нозофуг, посланные к нему сыном Улиссовым, употребили все средства к его уврачеванию и мало-помалу возвратили ему жизнь, отходившую; воскресла в нем крепость, тонкая и благодетельная сила, дух здравия, переходя из жилы в жилу, проникал в глубину его сердца, животворный огонь исторгал его из хладных рук смерти. Проходило изнеможение, но не сердечная горесть. Он, напротив того, теперь только начал чувствовать потерю брата. «К чему столько забот о моей жизни, – говорил он. – Не лучше ли бы мне умереть, пойти вслед за любезным моим Гиппиасом и не видеть его погибающего перед глазами моими? О Гиппиас! Отрада, свет моей жизни! Брат мой! Не стало тебя! Мне уже тебя не видеть и не слышать, не прижму я уже тебя к сердцу, не открою тебе своих скорбей, в печали тебя не утешу. О боги! Враги человека! Нет уже у меня Гиппиаса! Но мне ли лишиться его. Не во сне ли я все это вижу? О нет! Все совершилось. Гиппиас! Мне уже не видеть тебя, я был свидетелем твоей смерти, а сам должен жить, пока не отмщу за тебя. Падет от руки моей в жертву твоей тени жестокий Адраст, омывшийся твоей кровью».
Между тем божественные старцы оба старались успокоить смятенное сердце больного, боялись, чтобы от горести болезнь не усилилась и врачевства не остались без действия. Вдруг он увидел шедшего к нему Телемака. При первом на него взгляде возбудились в душе его две противные страсти: жила в его памяти распря между Гиппиасом и Телемаком, а печаль о потере брата питала еще более в нем неудовольствие. С другой стороны, он не забыл, что сам обязан жизнью Телемаку, когда тот исторгнул его из рук Адрастовых, окровавленного и полумертвого. Но когда увидел пеплохранительницу, где заключался драгоценный прах его брата, то залился слезами, обнял Телемака, тотчас не мог говорить, потом сказал ему слабым, прерываемым стонами голосом:
– Достойный сын Улиссов! Добродетель твоя заставляет меня любить тебя. Я обязан тебе остатком угасающей жизни, но тебе же обязан и тем, что дороже мне самой жизни. Без тебя тело брата моего, непогребенное, было бы добычей воронов, и тень его, как несчастная странница, отгоняемая неумолимым Хароном, скиталась бы вечно по берегу Стикса. И все это мне от того, кого столько я ненавидел. О боги! Воздайте ему за всю его благость, а меня избавьте от бедственной жизни. Телемак! Остается тебе отдать последний долг другому брату и тем довершить свою славу.
Фалант, сокрушенный, впал потом в изнеможение. Телемак стоял у одра его молча, ожидая, пока сила к нему возвратится. Вскоре он, ободренный, принял от Телемака пеплохранительницу, облобызал ее, облил слезами и говорил:
– Любезный и драгоценнейший прах! О, когда мой прах соединится с тобой! Иду к тебе, о тень брата и друга! Телемак отмстит за тебя и за меня.
Но каждый день, при пособии искусства Эскулапова, приносил Фаланту новую крепость. Телемак не отходил от больного, а врачи пред глазами его не щадили ни труда, ни внимания в пользовании. Войска дивились доброте его сердца, скорого на помощь врагу, еще более, нежели мужеству и разуму его при спасении союзников в битве.
При всех заботах он переносил всю тягость военной жизни неутомимо и бодро, спал мало, и кратковременный сон его бывал прерываем или частыми донесениями не только днем, но и ночью, или внезапным всегда в разных местах и в разные часы обозрением стана, чтобы видеть, все ли были бдительны на страже. Нередко он возвращался, покрытый потом и пылью, пищу употреблял самую простую, жил, как обыкновенный воин, стараясь показать собой другим пример трезвости и терпения, при недостатке в продовольствии предварял ропот в войске охотной наравне со всеми покорностью общей нужде. Но при столь трудной и тягостной жизни тело его не только не ослабевало, но еще окрепло. Сходила с лица его волшебная нежность приятностей – ранняя заря первого возраста, лицо в цвете потускло, но возмужало, менее в нем стало неги, но более силы.
Книга восемнадцатая
Телемак оставляет стан и, заключая по сновидениям, что отец его скончался, сходит в царство мертвых.
Описание Тартара.
Адраст с разбитым войском отступил за гору Авлонскую и там ожидал подкрепления, надеясь еще раз грянуть на неприятеля, подобный голодному льву, прогнанному от овчарни: идет, свирепый, обратно в глушь дремучего леса, в темное свое логовище, острить зубы и когти и, замыслив гибель стада, выжидает благоприятного времени.
Учредив в стане строгий порядок, Телемак думал уже только о совершении любимого своего намерения, тайного от всех полководцев. Давно с крушением сердца каждую ночь во сне он видел Улисса. Улисс всегда являлся ему под конец ночи, перед тем как утренняя заря приходила прогонять звезды с тверди небесной, а с лица земли сон со всеми его спутницами, беглыми мечтами. Представлялось ему иногда, что он видел его нагого, на незнакомом, но приятнейшем острове, на берегу прозрачной реки, в долине, цветами усеянной, в кругу нимф, которые бросали ему покровы на тело, иногда, – что слышал его речи в великолепных, светлых золотом и слоновой костью чертогах, где предстоящие, каждый в венке из цветов, внимали ему в сладость и дивовались. Часто Улисс вдруг являлся ему на празднестве, где все дышало посреди прохлад небесной радостью и слышался волшебный голос со звуками лиры, с которой в нежности не могли сравниться ни песни муз, ни звук лиры самого Аполлона.
Воспрянув, печальный от восхитительных сновидений, он говорил: «Отец мой! Любезный отец! Сны ужаснейшие были бы для меня утешительнее. Райские видения! Но они показывают, что ты уже сошел в обитель блаженных душ, приявших от богов вечный мир в возмездиеза добродетели. Не мечты во сне – вижу Поля Елисейские. Мучительная казнь – жизнь без надежды! Но, любезный отец мой, мне ли и подлинно никогда уже не видеть тебя? Не обнимать уже мне того, кто столько любил меня и кого я ищу с таким трудом, с такими скорбями? Не слышать мне тех уст, из которых мудрость исходила? Не лобызать уже мне той любезной, победоносной руки, которая низложила столько врагов? И она не накажет безумных преследователей моей матери? И Итаке уже никогда не восстать из развалин? О боги, враги отца моего! Ваш мне дар – зловещие сны: они уносят жизнь, исторгая из сердца надежду. Не могу я жить в таком томлении и неизвестности. Но что я говорю? Еще ли я не уверен в том, что нет уже на свете Улисса? Сойду в царство тьмы искать его тени. Сошел туда Тезей, преступный, с хулой в устах на преисподних богов, а я пойду, руководимый благоговением. Сошел Геркулес: я далек от Алкида, но и дерзновение идти по стопам великого славно. Орфей повестью о своем злополучии приклонил на жалость сердце неумолимого бога и испросил у него Евридике свободу возвратиться в страну живых. Я достоин ее сострадания: потеря моя несравненна. Юная дева, одна из тысяч, может ли сравниться с мудрым Улиссом, чтимым всей Грецией? Пойду и, если так суждено, погибну. Страдальцу ли бояться смерти? Плутон и ты, Прозерпина! Я скоро испытаю, так ли вы безжалостны, как говорят о вас нам предания. Отец мой! По суше и по морю тщетно я странствовал за тобой: пойду, не найду ли тебя в мрачной обители мертвых? Если богам неугодно, чтобы я увидел тебя лицом к лицу на земле, еще на свете солнца, то, может быть, они даруют мне утешение узреть хоть тень твою в области ночи».
Так говоря, он окроплял слезами постелю, потом вдруг вставал и в дневном свете искал отрады в мучительной грусти от сновидений. Но, как стрела, она запала ему в душу, везде и всегда с ним неразлучная.
В тоске сердца он решился сойти в преисподнее царство в знаменитом месте, известном под именем Ахеронтии, недалеко от стана. Там была ужасная пещера, путь к берегам Ахерона, которым и боги не смеют красться. На скале стоял город, как гнездо на верху высокого дерева. У подошвы горы начиналась пещера, куда никто из смертных не смел приблизиться. Пастух отгонял от нее свое стадо: воздух там заражался от серных паров Стигийского озера, выходивших из этого страшного вертепа.
Кругом ни трава, ни цветы не росли, ни тихие зефиры никогда не веяли, ни юные прелести весны, ни богатые дары осени не показывались. Уныло лежала бесплодная земля в запустении, изредка только виднелись голые кустарники или плакучие кипарисы. Вдали еще Церера переставала награждать золотой жатвой труд земледельца, и надежда на плоды Вакховы всегда была тщетной: не созревали, но на тощей лозе вянули гроздья. Не бежала струя за струей печальной наяды, дремали горькие и мутные воды. Никогда птицы не пели в этой мертвой и дикими тернами заросшей пустыне, не находили там они сени и улетали петь любовь под другим, приятнейшим небом: слышны были только зловещее завыванье совы или крик ворона. Трава даже была напитана горечью, и стада на ней никогда не играли. Вол бегал от юницы, и унылый пастух забывал свирель и цевницу.
Густой и черный дым по временам выходил из пещеры: день переменялся в темную ночь. Окрестные жители спешили тогда приносить преисподним богам жертвы за жертвами умилостивления. Но жестокие боги, послав гнев свой в смертоносном поветрии, часто пожинали в жертву примирения юношей в полном цвете возраста или на заре еще лет нежных младенцев.