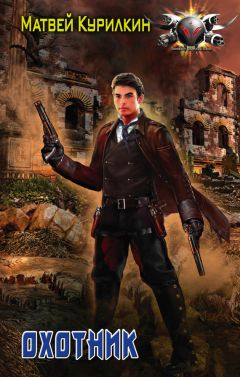Татьяна Джаксон - Исландские королевские саги о Восточной Европе
С середины XX в. в исторической литературе начала обсуждаться возможность применения ретроспективного метода в исследовании истории права[59] и социально-экономических отношений в средневековой Норвегии[60]. Историки постепенно убеждались, что все же многое в королевских сагах заслуживает доверия[61], а потому «речь идет не о том, пользоваться сагами или нет, а о том, как ими пользоваться, чтобы не впасть в ошибку»[62]. Если суммировать главные методические посылки, позволяющие исследователям не отказываться от королевских саг как источников по истории Норвегии, то в основном они сведутся к следующим:
– Королевские саги представляют собой особую разновидность исландских саг; существует целый ряд параллельных королевских саг, основанных на общих либо взаимозависимых источниках. При использовании их в качестве исторического источника нельзя оставлять без внимания результаты внутренней критики саг.
– «Историческая традиция и искусство художественного повествования» выступают в королевских сагах «в своем первоначальном синтезе, и правильно оценить познавательную ценность» их как исторических источников «можно, только принимая в расчет эту их особенность»[63]. В частности, фрагменты саг не должны рассматриваться выборочно – их следует привлекать в максимально полном объеме, дабы увидеть их в контексте всего источника.
– Королевским сагам, записанным в XII–XIII вв., свойственна модернизация более ранней истории[64], при изучении которой наибольшего доверия заслуживают те данные саг, которые подтверждаются ссылками на скальдов IX–XI вв. Сопоставление известий саг с соответствующими им скальдическими стихами позволяет отбросить позднейшие наслоения, отражающие взгляды и представления авторов саг.
– Поздний характер королевских саг делает также необходимым сопоставление содержащихся в них сведений с данными других источников: с археологическими[65], нумизматическими и топонимическими материалами, с сообщениями иностранных письменных памятников[66].
Рассмотрение королевских саг как источников по норвежской истории имело ряд особенностей. Во-первых, оно было явлением неизбежным, ибо саги содержат колоссальный объем материала, «позволяют придать динамизм довольно статичной картине, рисуемой судебниками»[67], содержат дополнительные по сравнению с юридическими памятниками материалы. Во-вторых, оно теснейшим образом переплеталось с начавшимся значительно раньше исторического филологическим изучением саг, решавшим и для историков ряд насущных вопросов. В-третьих, в силу того что изучение этого источника было последовательным и постоянным (практически никто на протяжении двух с половиной веков не пытался воссоздавать норвежскую историю без их привлечения), то все те этапы, которые прошло источниковедческое саговедение, можно соотнести с общеевропейским развитием исторической науки в XIX–XXI вв.[68]
Королевские саги и русская история
Совсем иначе обстояло дело с изучением королевских саг в России. В русскую историческую науку саги вошли в самом начале деятельности учрежденной в 1724 г. Петербургской Академии наук. Однако по причине несистемного, спорадического обращения исследователей русской истории к сведениям саг (что явилось естественным следствием ограниченности содержащейся в сагах информации) саговедение никогда не выступало в качестве самостоятельной дисциплины. В отечественной историографии тем самым не сложилось традиции изучения саг как исторических источников, а до 1993–2000 гг. (когда увидели свет три переиздаваемых здесь выпуска свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы»[69]) не было должным образом осуществлено и издание текстов (или фрагментов) королевских саг, имеющих отношение к восточноевропейской истории, и их переводов (об этом – ниже). Более того, изучение саг на протяжении двух веков было тесно связано с общим состоянием так называемой «норманнской проблемы»[70], с принадлежностью каждого конкретного исследователя к тому или иному «лагерю»[71].
Проведенный анализ работ российских историков, обращавшихся к сагам[72], показывает, что далеко не всегда в отечественной исторической науке к сагам относились некритически, слепо доверяя их сообщениям и черпая из них иллюстративный материал для разного рода исторических построений. По работам русских историков рассыпаны отдельные замечания, в совокупности очень точно характеризующие сагу как источник и оценивающие содержащуюся в ней историческую информацию. Однако блестящие частные наблюдения отдельных ученых никогда не были суммированы и осмыслены в целом. Ближе всех к этому подошла Е. А. Рыдзевская, но ей не удалось довести начатую работу до логического завершения[73]. Сведенные воедино замечания русских и советских историков о сагах как источнике по отечественной истории фактически повторяют (и подтверждают лишний раз) основополагающие методические моменты, выработанные для саг как источников по истории Норвегии (ср. выше).
– Необходим учет видового деления саг, ибо характер содержащихся в них сведений связан с типом источника. Простого хронологического приурочения (по хронологии сюжетов) здесь явно недостаточно[74].
– Сагам свойственна литературная обработка бытовавшего в устной традиции текста[75]; в рассказе совершенно очевидны «общие места» (говоря современным языком, «штампы», «стереотипные формулы»), стремление рассказчиков разукрасить свои походы и возвеличить конунга, которому посвящена сага[76]. Тем самым значение части саги определимо лишь после того, как составлено впечатление о всей ее совокупности[77]. Необходимо изучать все соответствующие саги, вычленяя из них определенные комплексы преданий[78]. Перед исследователем стоит историко-литературная задача: постараться выявить первоисточник, очистив его от позднейших наслоений, от поэзии и баснословия[79].
– Описываемые в сагах события отделяет от момента записи саг значительная временна́я дистанция[80]. Как следствие этого в сагах мы находим отражение общественных отношений времени их записи. Детали тоже не все принадлежат той эпохе, к которой относится содержание саги[81]. Частности, как правило, неверны[82].
– Необходим параллельный анализ письменных памятников и данных археологии[83].
Кроме того, в рассмотренных работах отмечаются еще две особенности, сказывающиеся на характере содержащегося в сагах восточноевропейского материала.
– Это, прежде всего, «односторонняя ориентация интереса», когда «положительные данные» относились только к Скандинавским странам[84].
– И наконец, отсутствие шведских саг[85], при том, что на восток большей частью отправлялись шведские викинги.
Итак, восточноевропейская история в исландских королевских сагах затрагивается лишь походя, в связи с поездками скандинавов на восток[86]. Интересующие нас сведения включаются в общее повествование только в тех случаях, когда есть сюжетная или композиционная необходимость. Известия эти, отрывочные и крайне разрозненные, приходится собирать в сагах по крупицам. Сосредоточенные на создании скандинавской истории и весьма внимательные к географии Скандинавских стран, королевские саги не фиксируют своего внимания на географии соседних земель и нередко приурочивают место действия за пределами Скандинавии к ряду наиболее привычных, трафаретных областей или пунктов. К этому еще добавляется и то обстоятельство, что с Восточной Европой были связаны скорее шведы и датчане, нежели исландцы и норвежцы, о которых большей частью говорится в сагах.
Королевские саги не могут быть правильно поняты в изоляции – как одна от другой, так и от других видов саг и прочих разновидностей древнескандинавских письменных памятников[87]. Каждый отдельный фрагмент находит свое место и осмысляется исключительно в более широком контексте, каковым может служить полная выборка материала, скажем, по тематическому признаку. Только анализ совокупности сведений позволяет обнаружить тот факт, что многие единичные сообщения построены в соответствии с этикетными требованиями. Ведь, как и большинство традиционных жанров средневековой словесности, саги характеризуются иерархией стереотипов, которыми пронизано всё – от мировосприятия до языка. Именно с учетом мировоззренческого уровня объясняются конкретные ситуации и вычленяются языковые клише, используемые для их описания. Выявляя в сагах стереотипные формулы, можно обнаружить их историческую основу («рациональное зерно») как за фактом их существования, так и за отклонениями от стереотипной схемы. Обнаружение такого рода формул является важным условием работы историка с сагами[88].
Непременного учета требует разрыв во времени между событием и его фиксацией, проявляющийся среди прочего в том, что зачастую авторы саг переносят явления позднего времени в более ранний период, изображая, по формулировке X. Кута, людей более древней эпохи в костюмах и с оружием XII–XIII вв.[89] На восточноевропейском материале следует со всем вниманием фиксировать те случаи, когда какие-то явления, характерные для XIII в. или более позднего времени, «опрокидываются», по выражению А. Я. Гуревича, в прошлое[90]. Необходимо учитывать также нередкие в сагах случаи переноса формульных стереотипов, выработанных при описании скандинавского материала, на совсем иную почву (ярким примером такого рода может служить изображение в ряде саг русского кормления в формах многократно описанного сагами и типологически сходного с ним древнескандинавского института – норвежской вейцлы[91]).