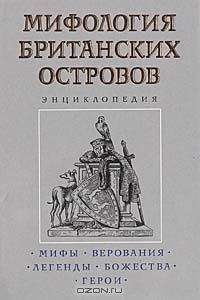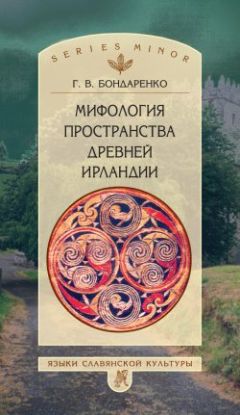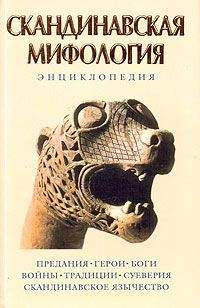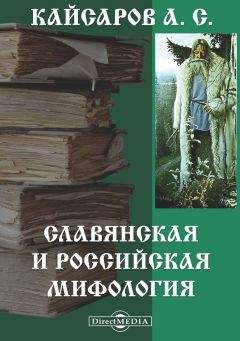Халил-бек Мусаясул - Страна последних рыцарей
Я посмотрел на нее с отчаянной нежностью и безумной преданностью. Ах, если бы она сейчас пожелала моей любви, я бы с готовностью исполнил ее волю. А она так безжалостно ушла от меня! Как отважный воин, она хотела только победы, какой бы то ни было ценой!
После того как это произошло, она, казалось, не спешила умирать. Ее отец всячески избегал встреч со мной, а здоровая сиделка осторожно передвигалась по комнате, пока я девять дней сидел у постели умирающей. Нина лежала вся белая, с полуоткрытыми глазами, безмолвная, а может быть погруженная в свои смутные фантазии. Только красоте семнадцатилетней было дозволено так невинно торжествовать над разрушительной силой смерти.
Я был сломлен этим роковым ударом настолько, что был готов вместе с Ниной уйти во мрак ночи, когда Мохама решил положить конец этим мучениям. Вечером восьмого дня он прислал за мной адъютанта, и я безвольно последовал за ним. Мохама приказал мне жить, он вырвал меня из цепких смертельных объятий Нины. И тогда меня одолел глубокий сон, более мягкая разновидность смерти. А утром нам сообщили, что ночью Нина скончалась.
Весь маленький город участвовал в этих торжественно-пышных похоронах с большим душевным состраданием, вызванным смертью такой молодой и красивой девушки. Музыка, цветы, экипажи, речи и молитвы, огромная масса людей… Шесть молодых мужчин, среди них и я, больше шатаясь, чем поддерживая, несли усыпанный цветами гроб. Это было ужасно для меня, оттого что все происходило в точности так, как об этом мечтала маленькая Нина. И как часть этой слишком дорого оплаченной мечты (а я чувствовал это именно так), оно имело свое оправдание. Что касалось моей роли во всем этом, то покойная не хотела, чтобы что-то меня миновало. Я испил свою чашу до дна, выполнив тем самым ее последнее желание.
Когда люди после окончания похорон снова вернулись к своим повседневным делам, моя жизнь обнажилась передо мной во всей своей пустоте. Даже журнал «Танг чолпан», игравший такую большую роль в моей судьбе, и тот потерял для меня свою значимость. Смерть Нины сделала мою жизнь бессмысленной и безрадостной.
Прошло некоторое время, и отец Нины пригласил всех друзей своего дома, в том числе меня и моего брата Мохаму, на поминки. Мне очень тяжело было идти туда, но мое отсутствие могло быть неправильно понято, и я пошел. Несмотря на то, что времена были трудные, многого недоставало, местного вина на столах было в изобилии, и под его воздействием недоверие и холод убитого горем отца по отношению ко мне постепенно прошли. Бог мой! Ведь он ничего обо мне не знал. А я мог бы стать для него хорошим сыном и зятем! «Но женщины, женщины, кто может в них разобраться! Трудное это дело — иметь дочерей, особенно в эти времена!» Его слова относились к той настоящей Нине, какой она была на самом деле. Ну что уж на него обижаться, он говорил об этом по-доброму.
Постепенно горе ослабевало, и Нина превратилась в нежный образ на туманно-сером фоне прошлого, все более и более похожая на священную икону в старой церкви, которую я иногда посещал, чтобы найти там утешение.
Через несколько месяцев после смерти Нины большевики начали продвигаться в Дагестан. Возглавляемые революционером Махачом {76}, они завоевали страну, несмотря на сильнейшее сопротивление. Махач был уроженцем аварского селения Гимры, родины Шамиля. (Родиной Махача является аул Унцукуль.— Прим. ред.). Сын простолюдина, он обладал темпераментом прирожденного бунтаря. После учебы в Петербурге он женился на внучке Шамиля, выросшей в России.
Махач получил европейское образование. Цивилизованный человек, но в тоже время абрек по натуре, как Зелим-хан, и мятежник, как Хочбар из Гидатля, которого воспевал Галбац, он принял идею революции с рвением, как и некоторые другие кавказцы, которым казалось, что она может свергнуть господство России и открыть путь к независимости. Все это было, конечно, роковой ошибкой, которая могла привести к хаосу.
Первым же правительственным распоряжением, после того как он занял Темир-Хан-Шуру, было обвязать памятник князю Аргутинскому-Долгорукому канатами и с помощью рабочих сбросить огромную фигуру с постамента. Безвкусно выполненная статуя завоевателя Дагестана в течение нескольких дней лежала на земле перед зданием правительства с вытянутыми руками и ногами, представляя собой ужасное зрелище. Но народ радовался этому, а Махач завоевал себе симпатии, потому что именно благодаря ему был снесен памятник русскому господству.
Он стал жить в городе вместе с женой и, благодаря нашим старым связям с семьей Шамиля, я приходил иногда в его дом. Если Темир-Хан-Шура и была в его руках, то горы еще не были покорены, там закрепились националисты-патриоты. Со временем им удалось занять отдельные территории в горах и начать продвигаться вперед. А в городе, где успехи первого после неожиданного нападения еще не достаточно закрепились, жители стали отходить от Махача, и вождь националистов издал приказ поймать его.
Тогда Махач решил временно поехать к туркам. Но перед отъездом он послал за мной и попросил остаться с его женой, чтобы охранять ее во время его короткого отсутствия. Я тут же пришел, еще не зная о его действительных намерениях. Запланированная поездка к туркам не удалась, и уже на следующий день конвоиры привезли изрешеченное пулями тело Махача обратно. Весь город был взволнован, ежедневно ждали беспрепятственного вступления националистов. Мусульманское духовенство решило как можно скорее похоронить Махача, так как существовала опасность инцидентов и массовых столкновений. Все было очень быстро подготовлено, и вскоре небольшая траурная процессия вышла из его дома. Никто из соратников и сторонников не сопровождал его в последний путь, кроме нескольких родственников Шамиля, за телом шли еще пять или шесть земляков, и на улице присоединилось несколько русских рабочих. Я участвовал в похоронах из уважения к его жене, внучке Шамиля.
Кладбище находилось у проселочной дороги, ведущей в Гуниб, и наша небольшая похоронная процессия шла по ней бесшумно и быстро.
Неожиданно мы услышали музыку и вскоре поняли, что это дагестанский национальный марш. Под его бодрые, победные звуки приближался головной отряд национал-патриотов под предводительством Алтая и Мохамы. Я поспешил им навстречу, чтобы поздороваться, в то время как траурное шествие продолжало медленно двигаться сзади. «Кого вы несете хоронить?» — спросил Алтай. Я сказал, что это Махач, зная, что произнес имя его злейшего врага. «Что? Махач? — воскликнул Алтай.— Хоронят Махача, и никто больше не сопровождает его? А где же остальные?» С этими словами он приказал своим конникам спешиться. Затем Алтай и Мохама отдали последние воинские почести покойному и прочитали заупокойную молитву — «Аль-фатиха». После этого они сели на коней и направились в город, а мы двинулись к кладбищу. Благородство Алтая наполнило мое сердце гордостью.
Вернувшись после похорон домой, я застал у себя в комнате студента Казибекова, своего бывшего школьного знакомого, который был народным комиссаром при Махаче. Он пришел, чтобы найти у меня защиту, так как мой родственник Алтай приказал расстрелять его. Он настоятельно просил меня укрыть его где-нибудь. Это была очень неприятная неожиданность! Будь я во время его визита дома, я мог бы его не впустить. Но тут, когда он уже оказался в моем доме, я не мог дать ему погибнуть и пообещал свою помощь. Четыре ночи он провел у меня. В один из дней, к моему ужасу, пришел Алтай, чтобы навестить меня, и я вынужден был спрятать Казибекова за ковром. Моя тайна ужасно угнетала меня, я лишился покоя и так похудел, что все стали спрашивать, не болит ли у меня что-нибудь, и почему я среди всеобщего веселья такой печальный. Все это дело не доставляло мне удовольствия еще и потому, что этот Казибеков мне вообще никогда не нравился, и я не был ему ничем обязан. Но он, как только ему понадобилось, вспомнил о старинном обычае, по которому жизнь гостя для хозяина священна. Теперь никуда не денешься, я был связан данным мною обещанием!
Однако это не могло продолжаться долго, и я заказал, наконец, носильщика с базара, купил у него его одежду и дал одеть Казибекову. Затем, наклеив ему рыжую бороду и загримировав, я благословил его в дорогу. Он сначала спокойно шел по главной, очень людной улице, потом вышел за пределы города и так продолжил свой путь до Дербента. После этого я почувствовал облегчение и свободу, и у меня сразу поднялось настроение. Но никто не может избежать своей судьбы. Вот и Казибекова, в конце концов, все же расстреляли.
Лишь много лет спустя в Самсуне {77} я решился рассказать брату Мохама об этом случае, и он осудил мое легкомыслие, которое могло навлечь на меня беду. И я не мог тут не сослаться на наши древние обычаи, которые так гордо и достойно продолжают жить и в наше новое, смутное время.