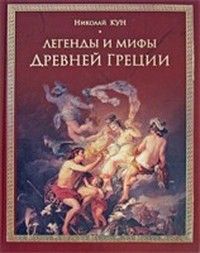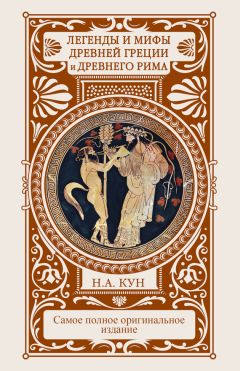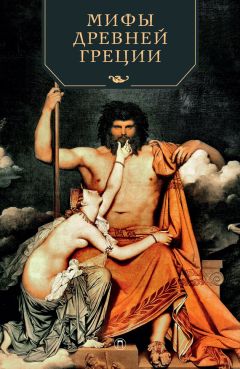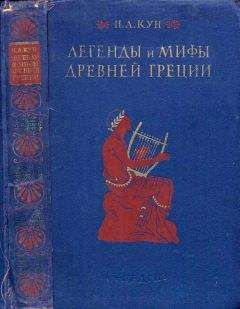В. Обнорский - Энциклопедия классической греко-римской мифологии
Литература (кроме общих руководств): Leop. Schmidt, «Die Ethik der alten Griechen» (1882).
§ 9. Греческая государственная религия в аттическую эпоху. Под аттической эпохой мы разумеем эпоху политического и культурного преобладания Афин, т. е. пятый и четвертый века до Р. Х. Афины славились своим благочестием; они гордились тем, что нигде в Элладе празднества в честь богов не совершались так торжественно, как у них. Они признавали вещую силу дельфийского прорицалища и часто, подобно другим греческим государствам, к нему обращались и в государственных, и в частных делах; но в силу исторических условий их политика была противоположна дельфийской. В эпоху аристократического режима этот антагонизм не особенно проявлялся, но уже в VI веке, в эпоху наибольшей силы Дельф, тиран Писистрат впервые направил Афины на тот путь, который должен был привести к разрыву с городом Аполлона. Чтобы укрепить в Афинах антидельфийский дух, он поддерживал гомеровскую поэзию, которую Дельфы пытались было заслонить покровительствуемой ими лирикой; он же правильно оценил значение зарождавшейся именно тогда самобытной афинской отрасли поэзии, драмы (при нем жил Феспис), которой суждено было со временем, примыкая к Гомеру, произвести новую (числом третью) переоценку греческой мифологии и, следовательно, религии. Группировалась драма вокруг культа Диониса, который стал, рядом с Афиной и Деметрой, национально-афинским божеством, с характером религиозно-культурного противовеса дельфийскому Аполлону. Писистрат стал вдвойне ненавистен Дельфам – и как тиран, и как националист; они деятельно агитировали против него и его сыновей, опираясь и на его афинских недоброжелателей-аристократов, и на внешние силы (Спарту), и наконец добились своего. Успех их так удовлетворил, что они не отказали в религиозной санкции даже реформе Клисфена, несмотря на ее демократический характер. Все же разрыв был неизбежен; его ускорила антинациональная политика Дельф во время персидских войн, доставившая Афинам все преимущества в борьбе. Положение Спарты стало затруднительным: как предводительница греческих государств (стала же она таковой с дельфийского благословения) она должна была идти наперекор своим всегдашним вдохновителям, Дельфам, которые теперь, потеряв эту светскую опору, вынуждены были опираться на Аргос, «ненавистный соседям, но любезный бессмертным богам», как они его называли в одном оракуле; ему они сулили первенствующую роль в Греции на случай ожидаемой персидской победы, как мнимому городу-родоначальнику персов (последние будто бы происходили от аргосского царя Персея, одной из многочисленных ипостасей Солнца-богатыря). Назревала новая греко-персидская религия, предварение позднейшего митраизма; но поражение персов разрушило эти мечты. Пришлось дельфийской религии опять войти в пределы греческого мира; вскоре прежний союз со Спартой был восстановлен. Тем сильнейшей опале со стороны Дельф подверглись Афины; в Пелопонесскую войну дельфийский Аполлон открыто объявил себя союзником Спарты. Это обстоятельство имело роковое значение для религиозного положения Афин. Как-никак, а дельфийская религия была прогрессирующей; благодаря оракулу она обладала возможностью дать религиозную санкцию тому символу или догмату, который ей казался своевременным. О том, что она пользовалась этой возможностью, свидетельствует роль таких религиозных реформаторов, как Пифагор, такие проявления религиозной жизни, как орфизм, да и произведенная лирическими поэтами переоценка родной мифологии: нет сомнения, что установленный этими поэтами с замечательным единодушием характер греческой религии был много возвышеннее, чем наивный политеизм Гомера. И вот Афины были теперь оторваны от этого вдохновителя греческой религии. Не имея возможности рассчитывать на дельфийскую санкцию для каких бы то ни было новшеств, они поневоле были вынуждены воздерживаться от них; лозунгом государственной религии Афин была «верность заветам отцов». Санкция давности должна была заменить дельфийскую санкцию современности. Этим обстоятельством объясняется явление, поражающее всякого, кто изучает культурную историю Афин: замечательная косность государственной религии в городе, который во всем прочем далеко опередил другие греческие государства. Именно демократическая партия, которая была в то же время антиспартанской и, стало быть, антидельфийской, ревнивее всего относилась к отечественной религии и никаких новшеств и вольнодумств не допускала. Не в ней одной заключалась, однако религиозная жизнь той эпохи. Гораздо более живую деятельность наблюдаем мы вне ее, среди мыслителей. Этих последних мы можем разделить на три группы. 1) Группа мыслителей-иноземцев, преимущественно ионийского происхождения – так называемые софисты. Относясь скептически ко всякой религиозной санкции, они одинаково отвергали как дельфийскую, так и афинскую государственную религию; по своим политическим убеждениям они были, как чужеземцы, индифферентны, но, естественно, льнули к своим покровителям – богатым и влиятельным гражданам из партии умеренных (Перикл, Каллий и др.), которых они сильно компрометировали своим вольнодумством в глазах строгих демократов. 2) Группа афинских мыслителей и поэтов аристократических убеждений, сохранивших связь с Дельфами и поэтому участвовавших в религиозной эволюции нашей эпохи. К ней принадлежали самые славные имена Афин V и IV веков: Софокл, Сократ, Платон. 3) Группа афинских мыслителей и поэтов антидельфийских убеждений, но в то же время прогрессивного образа мыслей, решившихся произвести переоценку религиозных понятий и представлений с афинской точки зрения; сюда относятся главным образом Эсхил и Еврипид, из коих первый имел свою религиозную основу в религии Деметры, а второй – в религии Диониса (согласия между ними, впрочем, не было: Эсхил был цельной религиозной натурой, Еврипид находился под влиянием мыслителей первой группы). Ко всем трем группам демократическая партия относилась с одинаковым недоверием, и их представители подвергались одинаковым гонениям с ее стороны; самой знаменитой вспышкой в этом роде был в 399 г. процесс Сократа, которого Дельфы объявили мудрейшим из эллинов за то, что он «не верует в тех богов, в которых верует государство». Религиозно-нравственная эволюция эпохи заключается в медленном перерождении нравственного идеала – превращения arete из «доблести» в «добродетель». Необходимость этого перерождения была дана в самом характере дельфийской религии с тех пор, как она приняла в себя зачатки дионисовой религии, в виде орфизма, с его эсхатологией, чуждой первоначальному, чисто жизненному характеру аполлоновского миросозерцания. Правда, орфизм был тайным учением, аполлоновские идеалы проповедовались явно; но тайное учение чем далее, тем более проникало в общество, последствием чего было то, что можно назвать «переоценкой жизни и ее благ с точки зрения смерти». А так как греческая нравственность была по существу эвдемонистической, то прежде всего эсхатологический эвдемонизм (представляемый либо в виде вечного блаженства, либо в виде нирваны) становится рядом с биологическим (ср. притчу о Крезе и Солоне: представитель биологического эвдемонизма – Телл, представители эсхатологического – Клеобис и Битон; оба противопоставляются наивному и грубому эвдемонизму Креза). Лирическая поэзия, прославительница блеска и «доблести», отживает свой век; на смену ей является поэзия драматическая, черпающая свое вдохновение в дионисийском экстазе. Софокл переносит новодельфийский эвдемонизм на сцену (Антигона жертвует властью, богатством, браком, словом, всеми благами жизни для того, чтобы «угодить подземным богам»; «ты избрала жизнь, а я – смерть», – говорит она сестре). Сократ и Платон окончательно утвердили за arete значение «добродетели». Параллельно с этим этическим перерождением греческого язычества происходит и его эстетическое перерождение. Аттическая эпоха была временем наибольшего расцвета античного художества, под влиянием школы Фидия и его последователей. Угловатые и слегка безобразные типы VI в., смотрящие прямо перед собой то с выражением строгости, то с улыбкой безучастного блаженства, – сменяются новыми, в которых идеал красоты достигает своего предела; легкий наклон прекрасной головы ставит божество в непосредственные сношения с человеком, служа наглядным символом идеи любви бога к человеческому роду. Возникают новые типы юных божеств: кроме Аполлона, который уже в VI веке так изображался, – еще Дионис и Гермес, которых раньше представляли бородатыми. Главное – божества индивидуализируются. В раннем искусстве они все были друг на друга похожи; различали их по атрибутам. Теперь изобразительные художества, отчасти следуя поэзии, отчасти самостоятельно, стремятся к индивидуальной характеристике изображаемого божества. Эти характеристики, проникая в сознание общества, окончательно запечатлевают в нем божества греческого политеизма, как ярко определенные и разнородные типы. Отныне интеграция этих типов в одну всеобъемлющую идею божества была невозможна: монотеизм не мог поглотить греческого политеизма – он мог только разбить его.