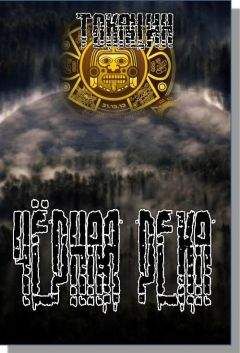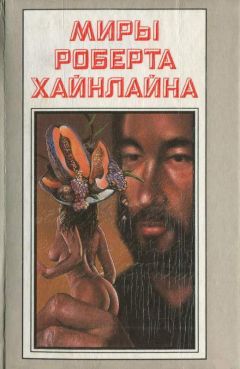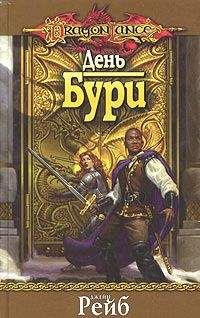Корнелия Добкевич - Штольня в Совьих Горах
— Так, дедушка… — печально ответил Якуб. — Не убили! Видать, разбойники эти хватают людей, чтобы потом в неволю их продать — туркам, али татарам. Большая это беда, печаль великая, да и разорение полное…
А Гацек всё вертелся поблизости — то лизал руки хозяину, то скулил жалобно, словно говорил о верности своей и дружбе… Посидел немного на завалинке дед, но видя горе хозяина и не надеясь больше милостыню от него получить, закинул за спину тощую, драную суму, да и пошел себе по дороге, что через лес ко Вроцлаву вела.
Остался Прокша один. Семьи и родных у него не было — в своем роду оказался он последним. Из прежних его уцелевших работников кузнечных никто не пожелал вернуться к нему — страшились разбойников, боялись работать в такой глуши лесной. Потянулись к местам, где полюднее и побезопаснее — в кузницы нанимались в Тархалицах и Волове: испокон веков силезские кузнецы там осели.
Из польских деревень, что были далеко друг от друга разбросаны по равнине подсьлёнжинской, тоже никто не захотел придти Якубу на помощь: и без того обезлюдел тот край после наезда татарского и мора страшного. Даже у рыцаря Лабендзя рабочих рук для пахоты и всякого хозяйства не хватало. Да и не каждый может кузнецом быть — нелегкое это ремесло! Чтобы таким мастерством овладеть, здоровье требовалось большое, сила немалая, ловкость, внимательность и упорство. Оно и понятно: в те давние времена кузнец был не только кузнецом, но и плавильщиком.
Немало забот стало у Прокши: зачали в округе немцы хитрые шнырять, выспрашивали мужиков, где тут дворы заброшенные имеются, высматривали в лесах древесину получше да поценнее, вынюхивали и примерялись меж собой, где бы им мельницу свою поставить заместо сожженной татарами, или мост на реке, чтобы способнее лес вывозить…
Дед-нищий, что вскоре к Прокше из Вроцлава зашел, наведался в праздничный день в замок Лабендзя, но когда вернулся оттуда — еще больше огорчил Якуба:
— Своими глазами видал я одного толстого немца и двух потощее, когда они с Лабендзем на крыльце стояли и околицу осматривали… Лопотали по-своему что-то и голову рыцарю морочили так, что слуги погнали их прочь: до того надоедные, черти!
Помрачнел Яку б от этих слов, спросил деда:
— А не слышал ли кто, чего они болтали?
— Слышали, слышали! — поспешил ответить дед. — Ничего иного и не плели, только то, чтобы рыцарь тебя из кузницы прогнал, да продал им вместе с лесом этим и с рудой, что на лугах…
— Боже милостивый! — схватился за голову Прокша.
— Показывали Лабендзю, что кузница твоя и не дымит вовсе… — говорил дед. — Лопотали, что, видать, спишь ты за полдень и о людях не беспокоишься, кои разбежались с твоего двора…
— Недоля моя… Беда! — в страшном отчаянии вздыхал кузнец, огорченно и скорбно глядя на остывшие дымарки, что на вырубке чернели. — Кузница! Рода нашего кузница, всех Прокшей. Как могу я покинуть ее, ежели тут еще мои деды-прадеды сидели? Лес корчевали, дом этот ставили, кузницу строили, сараи, ограду… Да и куда мне, идти? — стонал он жалобно. — В какую сторону оборотиться?
Молчал дед, озабочен был он и жалел Прокшу. Ничего не замечая, жевал он корку хлеба засохшую — всё, что нашлось в хате Якубовой, — а думал о горе хозяина.
Гацек вертелся возле них, лизал потрескавшиеся, почерневшие от работы руки Якуба. Много приходилось теперь трудиться Прокше, да разве один управишься? Мало перековал он слитков выплавленных — приходилось от наковальни к мехам перебегать и обратно, а всё одному, без помощи.
Отдохнув немного на завалинке, да поговорив еще с кузнецом, отправился дед в новое свое странствие. А Прокша принялся пересчитывать да чистить клещи, молотки и другой инструмент, что в кузнице сохранился. За этой работой и время шло, только думы не отлетали — пытался Якуб выход какой-то найти, чтобы кузницу свою отстоять от немцев…
А Гацек — видя, что не до него хозяину — погрыз корку сухую, что ему дед бросил, воды в ручье налакался и в лес побежал: позабавиться, а то и поживиться чем-нибудь. Вспугнул старого кабана одинокого, что в болотце за ольхами разлегся, потом белку на дерево загнал, гневным лаем ворон переполошил, которые над кустом вереска кружили, где бедный зайчонок укрылся. По дороге жабу лесную обнюхал и носом перевернул — баловства ради. До того забегался, что с вывешенным на бок языком залез в лещиновые заросли — отдохнуть немного от гоньбы немыслимой.
Тяжело дыша, припал Гацек брюхом к земле. Охватила его дремота, потянулся пёсик, зевнул сладко, повертелся малость по собачьему обычаю — чтобы вытоптать местечко в траве — да и улегся.
Но тут вдруг какой-то твердый предмет в бок ему уперся. Вскочил Гацек, осмотрелся, принюхался — пахло чем-то приятным: немного стружкой, немного ремнем старым. Схватил Гацек зубами выступавший край, рванул на себя и, к радости своей, вытащил старый постол, давно кем-то брошенный.
Совсем тут дремота от пёсика отлетела. Старый постол! Да разве может быть что-либо лучше для собачьей забавы, чем мягкая, заношенная человеческая обувь?..
Поиграл им Гацек немного, потом взял в зубы и потащил в хозяйскую хату. Забрался в темные сени и подальше за бочку, что в углу стояла, спрятал: как собаки кость прячут про черный день.
И не знал пёсик, что в постоле том нашел себе пристанище пендзименжик — добрый маленький человечек с седой бородой, в коричневом колпачке на голове и в таком же кафтанчике, сотканном из пуха заячьего.
Днем человечек всегда спал — ночью у него работы много было. Ходил он тогда по лесу и, присвечивая себе куском светящейся гнилушки, ночных сов от птичьих гнезд отгонял. Ранним же утром помогал мотылькам из куколок выходить и крылышки расправлять, а цветам — бутоны раскрывать перед восходящим солнцем. Потом вел на водопой маленького косулёнка, у которого звери матку загрызли; от волка его охранял. А еще освобождал из силков попавшихся туда куропаток и тетеревов…
Когда же падала на землю роса — купался гном в ямке, что лось копытом своим выбил. Освеженный, чистенький, возвращался он в жилище, что в старом постоле было, да и засыпал на ложе из мягкого птичьего и заячьего пуха.
После целой ночи ходьбы и работы наваливался на гнома тяжелый, каменный сон. Зарывшись в пух, не слышал он ни лая Гацека, ни путешествия в зубах пёсика. Только к вечеру разбудил его голод — тем более сильный, что пухлый носик его почуял какой-то очень вкусный запах.
Как раз в это время Якуб растопил печь и жарил на сковороде сало для заправки пшенной каши. Гном быстренько вылез из постола и с любопытством огляделся вокруг. Тихо и тепло было в сенях — ни ветра, ни сырости. Приподнялся гном на цыпочках, подтянулся к самому порогу и сквозь щель в неплотно закрытых дверях заглянул в горницу. То, что он там увидел, показалось ему приятным и вызвало доверие в маленьком сердечке гнома. На лавке сидел человек в сером кафтане и в таких же постолах, как и тот, что служил гному жилищем. На коленях человек держал миску с кашей и ел из нее. Рядом с ним, у самых ног хозяина, аппетитно чавкая над малой мисочкой, уплетал кашу пёсик.
Известно, как любят гномы вкусную еду. С большой охотой пьют они молоко и едят пшенную кашу со свиными шкварками.
Но не посмел гном войти в хату и попросить незнакомого хозяина, чтобы он и ему выделил часть своей еды. Поэтому притаился за порогом и стал ждать.
А тем временем Прокша поужинал, да и лег на полатях, где сено было положено и застлано кожухом. Гацек же прыгнул через порог и, чуть не растоптав гнома, отправился дом сторожить. В печи догорали смолистые щепки и бросали на пол тусклый свет.
Гном осмелел, перелез через порог и вошел в горницу. Охватило его сразу приятное тепло, а манящий запах, что долетал от сковороды, казался гному еще милее. Тихо ступая по глинобитному полу своими тонкими ножками, обутыми в сапожки из кожи, которую недавно сбросил с себя ужик, стал гном собирать возле лавки рассыпанную кашу, крошки хлеба и кусочки шкварок, которые упали с ложки Якуба.
Обильно поужинал гном — пришлось маленько распустить на своем круглом брюшке пояс, сотканный ему в подарок старым одиноким древесным пауком.
«О, видно хороший хозяин этот человек, что спит на полатях! — подумал гном. — Сам ест и о собаке заботится. Сколько каши ему в мисочку наложил!»
А Прокша и не спал вовсе — печальные мысли его в это время одолевали. Со своего ложа заприметил он гнома и усмехнулся добродушно, видя, как маленький человечек старательно собирает с пола и с аппетитом ест крохи, оставшиеся от ужина.
«Добры они, эти человечки! — подумал он. — Старательные, заботливые, полезные… Пусть он у меня поселится. Веселее с ним будет в хате, всё не один я…»
Утром поставил он для маленького гостя — поближе к порогу — мисочку похлебки и кусочек хлеба помягче. С того дня, когда, бы ни ел, всегда помнил о гноме.