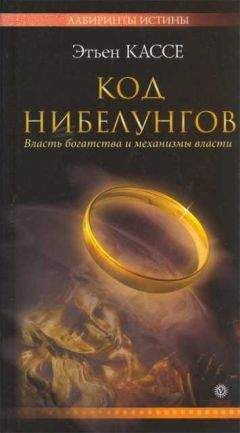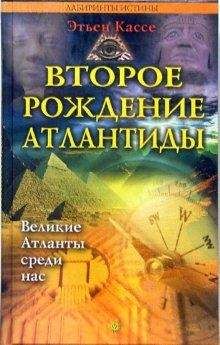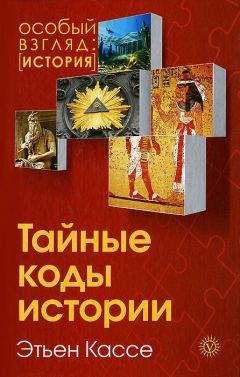Александр Кондратьев - Улыбка Ашеры
Только вот замечать стали люди, что Онисим от женского пола отстраняться начал. «Надоели, — говорит, — вы мне хуже горькой редьки. Отвяжитесь от меня, Бога ради». Прятаться от них даже стал. Сядет где-нибудь в укромном месте и на балалайке тренькает. Особенно полюбилось ему на реке одно место. Каждый вечер, как свою работу справить, туда проберется, сядет на старой колоде, глядит, как месяц на небе всходит, и играет себе…
Не любил тоже, когда кто туда к нему приходил. Баб этих самых так чуть не в шею гнал, просто. И никто не знал, отчего Онисим так переменился и что с ним такое случилось.
А случилось вот что. Пошел он однажды на берег и стал играть что-то веселое, плясовое. И хорошо играл. Так хорошо играл, что стало ему казаться, будто пыль перед ним завилась и легкой струйкою под музыку кружится, ходуном ходит, словно пляшет…
Смотрит Онисим и удивляется. Ветру и нет, а пыль кружится… И стал он это каждый вечер во время игры своей замечать… А иной раз в пыли нет-нет, да и мелькнет от земли в рост человеческий не то змея темная, не то коса девичья, или ровно спина чья-то голая под закатом солнечным зарозовеет. Дивится Онисим, а игры не бросает. Пальцы так по струнам и отхватывают, а в пыли с каждым днем все ясней и заметней девичье тело проступает. После Онисим и совсем ее разглядел. Из себя тоненькая, стройная; волосы в четыре косы заплетены. А когда пляшет, то так ногами перебирает, что любо дорого посмотреть. А Онисиму это и занятно. Невдомек было парню, что, мол, это за девушка ему кажется. Видит, что собою красива; лицо тонкое, господское; брови, как змейки изогнутые, глаза темные, большие, — ему этого и довольно. Редко, ведь, случается, чтобы девка перед человеком без сарафана и сорочки плясала. В то время, ведь, строго было…
Ребятишки, которые в ночное ездили, сами слышали, как Онисим поиграет, поиграет, да и засмеется, хотя с ним как будто и не было никого. Девка же та стала потом к нему и без музыки приходить.
И парень от нее не бегал. Верно, нечисть эта ему по сердцу пришлась.
Сам же Онисим после рассказывал, что она ему ровно мед стала. «Прижмется, — говорит, — ко мне, руками шею охватит и целует; да так целует, что даже губы потрескаются и долго после зудят». И не то, чтобы она видение какое была, — нет. Виденье, то насквозь пройти можно, а эту — нельзя. Эта крепкая была. И не ведьма. У ведьмы глаза — злые; а Онисим рассказывал, что у нее были ласковые, да грустные. Того и гляди, заплачет. Только это потом стало, как они короче сошлись, а первое-то время она веселая была…
Видят сродственники, что извелся Онисим, по ночам пропадает, днем, как сонная муха бродит; лицо осунулось, и задумываться начал. Бывалые люди ему и говорят: «Ты лучше нам откройся; мы тебе, может, и посоветуем что». Онисим и признайся. «Ходит-де ко мне по ночам девушка, и сам не знаю, ни откуда приходит, ни куда поутру пропадает. Со мною ласкова, только не говорит ни слова. Очень она мне полюбилась, и не знаю, как ее навсегда при себе оставить».
— Да на что она тебе. Ведь если это русалка с реки или другая нежить, то она под венец не пойдет и ни в избе с тобой жить, ни щей тебе варить не станет.
— Если любит, — и под венец пойдет и крещение примет. Только это не русалка. У тех, говорит, волосы мокрые и тело холодное, а эта совсем как настоящая девка, только сквозь дверь запертую проходить может.
Тут кто-то ему и посоветуй: «В следующий же раз, как она возле тебя будет, ты возьми, да и набрось ей на шею свой крест. А там видно будет».
Сказано — сделано. В первую же ночь, как пришла к Онисиму в старую баню, где тот ночевал, его гостья и стала к нему ласкаться, парень ей свой нательный крест и накинул. Девушка даже в лице переменилась, метаться по бане начала, потом к нему припала, обнимает, плачет и жалостным таким голосом заговорила:
— Мил человек, избавь ты меня от этой тягости. Век тебе служить буду, если снимешь.
А Онисим ей: «Для того я на тебя и надел, чтобы навек с тобой не разлучаться. Хочу, чтобы ты женой моей стала».
— Мил человек, не могу я навсегда с тобою остаться. Не отпустят меня.
— Кто не отпустит?
— Да те, у кого во власти живу. Нешто они потерпят, чтобы я крест приняла и к людям вернулась…
И стал тут Онисим девушку свою слезно просить и умолять, чтобы она от него вовсе не уходила и навсегда при нем оставалась. Тронул ее парень своими слезами. И сама плачет и ему глаза легкими своими ладонями вытирает… А наконец, и говорит: «Друг ты мой милый, если я теперь с тобою останусь, — едва только солнце взойдет, беспременно умереть должна буду… Ты меня, лучше, отпусти и крест с меня сними, а то мне в нем назад показаться нельзя будет. Если же хочешь ты меня вызволить — есть для того одно только средство. В ночь на Светлую заутреню, перед тем, как станут петь „Христос Воскресе“, ты выйди из церкви и пойди налево от паперти; там возле боковой калитки железной я тебя ждать буду. Если ты со мною первой похристосуешься, крест на меня наденешь и три раза „Отче Наш“ надо мною прочитаешь, — я тогда на все дни твоя буду… А теперь крест с меня сними и — прощай! Увидимся в ночь на Светлую заутреню».
Вздохнул Онисим, снял с девушки крест и вновь на себя надел. А та парня поцеловала, на ухо его попросила ни с кем без нее не любиться и скрылась — ровно в стенку вошла…
Скучная была для Онисима зима. Барин о ту пору за границу уехал. Работы мало было, а радостей и вовсе не бывало. Как ни старался парень вновь приманить свою гостью: и в бане ночевал, и на балалайке под сумерки играл, и на реку ходил зазнобу свою выкликать — ничто не помогало. Даже во сне ее ни разу не видел…
Настал, наконец, и Великий Пост. Отговел Онисим, отысповедался и к причастию сходил. Вот и Страстная Суббота наступила. Люди кругом моют, чистят и стряпают, а молодец наш ни о чем, кроме суженой своей думать не может. Хоть и говорили ему, что к барскому приезду надо и лошадей перековать и сбрую хорошенько смазать и вычистить, — всякая работа словно из рук у парня валилась. Ждет не дождется, когда в соседнем селе к заутрене заблаговестят.
Начисто выбрившись и подстригши в скобку черные кудри, нарядился Онисим в свой праздничный синий кафтан, перехватил алым поясом стан и, блестя новыми смазными сапогами, не утерпел — зашагал в церковь задолго до заутрени.
Уже стемнело, но дорога была знакомая, и каждый кустик на ней в сумраке ему как родному кивал. Радостно идти парню. На березах, липах и черемухах почки распускаются. Дух такой сладкий… Прошлогодним листом чуточку пахнет и землей талой… К ночи посвежей стало. Заяц (облезть, видно, не успел) белым пятном в сумраке через дорогу промахал. Птичка перепорхнула в кусты у придорожной канавы… Одну за другой обогнал по пути торопившийся парень двух-трех старух-богомолок.
Подошел к церкви Онисим, а там, у каменной ограды и возле паперти, собрались уже из дальних деревень старики и старухи, да ребятишки оравой разыгрались.
Заглянул в церковь молодец, где еще пусто было, и пошел в нетерпении налево от паперти, вдоль церковной стены, обходя кресты и могильные памятники погребенных возле храма господ. Быстро пробрался он к запертой крепко решетчатой калитке в ограде. Там никого не видно; одни только кресты темнеют. Вокруг все тихо. Лишь ветерок шелестит в вершинах кладбищенских голых берез, да издали визг ребятишек долетает… На небе одна за другой серебряные звезды затеплились.
Походил Онисим между крестов и вернулся к церкви; поставил там свечку и вновь терпеливо стал дожидаться заутрени. А народ, тем временем, уже собираться начал. Некоторые знакомые с Онисимом здороваются, а он никого словно не видит…
Вот, наконец, грянул и полетел, гудя по ночному черному небу, первый, торжественно громкий удар с колокольни.
Началась и заутреня. Онисим крестится, поклоны кладет, даже за свечой смотрит, чтобы воском себя и других не залить, а сам об одном лишь думает: «Пришла уже, или нет еще?..».
Вслед за крестным ходом выбрался Онисим из толпы у церковных дверей и заторопился, хрустя сапогами но затянувшимся лужам, налево от паперти к железной калитке. Глядит, — а его суженая уже там, стоит под березкой, вся в черном, как монашенка; один лишь платок на голове белый, а лицо строгое такое и неподвижное.
Стал было Онисим крест сымать и к ней подходить, — она на него замахала и пальцем на церковь показывает: «Рано, мол; погоди, когда заноют». Стоит парень, слушает, как маленькие колокола потихоньку перезванивают, и на невесту свою смотрит. Видит, она на калитку косится. Посмотрел и он туда, — за решеткой будто еще кто-то в черном виднеется.
Тут колокола стихли. От церкви слова молитвы долетают, а со стороны дороги — словно тройка, бубенцами гремя, по подмерзшей земле скачет… В это время запели «Христос Воскресе». Глядит Онисим на свою нареченную, и видит, что она ему радостно так улыбается… Но едва кончили петь, девушка вдруг встрепенулась и снова лицо к калитке повернула. А там с громом и стуком остановилась, храпя, чья-то борзая тройка. Кто-то распахнул снаружи мигом калитку, и Онисим увидел, как его собственный барин из тарантаса вылезть собирается.