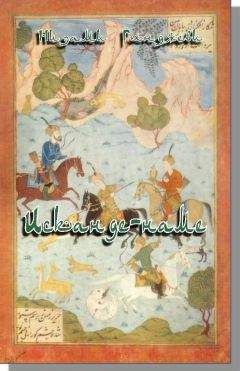Гянджеви Низами - Пять поэм
Заклинание, обращенное к матери, и смерть Искендера
Музыкант, вновь настрой свой рокочущий руд!
Пусть нам явит ушедших твой сладостный труд.
Запевай! Посмотри, я исполнен мученья.
Может статься, усну я под рокоты пенья.
Если в утренний сад злой нагрянет мороз,
Опадут лепестки чуть раскрывшихся роз.
Как от смерти спастись? Что от смерти поможет?
Двери смерти закрыть самый мудрый не сможет.
Лишь смертельный нагрянет на смертного жар,
Вмиг оставит врачей их целительный дар.
Ночь скончалась. Вся высь ясной стала и синей.
Солнце встало смеясь. Плакал горестно иней.
Царь сильнее стонал, чем в минувшую ночь.
Бубенцы[484]… Отправленья нельзя превозмочь.
Аристотель, премудрый, пытливый мыслитель,
Понимал, что и он — ненадежный целитель.
И, узнав, что царя к светлым дням не вернуть,
Что неведом к его исцелению путь,
Он промолвил царю: «О светильник! О чистый!
Всем царям льющий свет в этой области мглистой!
Коль питомцы твои не сыскали пути,
Ты на милость питателя взор обрати.
Если б раньше, чем вал этот хлынет суровый,
Страшный суд к нам направил гремящие зовы!
Если б раньше, чем это прольется вино,
Было б нашим сердцам разорваться дано:
Каждый волос главы твоей ценен! Я плачу.
Волосок ты утратишь, я — душу утрачу.
Но в назначенный час огневого питья
Не избегнуть — ни ты не избегнешь, ни я.
Я не молвлю: «Испей неизбежную чашу!»
Ведь забудешь, испив, жизнь отрадную нашу.
И не молвлю: «Я чашу твою уберу».
Ведь не должен я спорить на царском пиру.
Злое горе! Лампада — всех истин основа —
От отсутствия масла угаснуть готова.
Но не бойся, что масла в лампаде уж нет.
В ней зажжется, быть может, негаданный свет».
Молвил царь: «Слов не надо. У близкой пучины
Я стою. Жизни нет. Ожидаю кончины.
Ведь не я закружил голубой небосвод
И не я указал звездам огненный ход.
Я лишь капля воды, прах в пристанище малом,
И мужским, сотворенный и женским началом.
Возвеличенный богом, вскормившим меня,
Столь могучим я стал, столь был полон огня,
Что все царства земли, всё, что смертному зримо,
Стало силе моей так легко достижимо.
Но когда всем царям свой давал я покров,
Духом был я могуч, телом был я здоров.
И недужен я стал. Эта плоть — пепелище,
И уйти принужден я в иное жилище.
Друг, тщеславья вином ты меня не пои.
Ключ живой далеко, тщетны речи твои.
Ты горящую душу спасешь ли от ада?
Лишь источникам рая была б она рада.
О спасенье моем помолись в тишине.
Снизойдет, может статься, создатель ко мне».
Солнце с гор совлекло всю свою позолоту,
И Владыка царей погрузился в дремоту.
Ночь пришла. Что за ночь! Черный, страшный дракон!
Все дороги укрыл мраком тягостным он.
Только черную мир тотчас принял окраску.
Кто от злой этой мглы знал бы помощь и ласку!
Звезды, молвивши всем: «На деяньях — запрет»,
Словно гвозди забили желанный рассвет.
Небо — вор, месяц — страж, злою схвачены мглою.
Вместе пали они в чан с густою смолою.
Мир был черен, как сажа, стонал он в тоске,
Он, казалось, висел на одном волоске.
Таял царь, словно месяц ущербный, который
Освещать уж не в силах земные просторы.
Вспомнил он материнскую ласку. Душа
Загрустила. Сказал он, глубоко дыша,
Чтоб дебир из румийцев, разумный, умелый,
За писаньем по шелку давно поседелый,
Окунул свой калам в сажу черную. Пусть
Он притушит посланьем сыновнюю грусть.
…Стал писец рисовать на шелку серебристом.
Так он слогом блеснул нужным, найденным, чистым:
«Пишет царь Искендер к матерям четырем[485],
А не только к одной: мир — в обличье твоем.
Убежавшей струи не поймать в ее беге,
Но разбитый кувшин остается на бреге.
Хоть уж яблоко красное пало, — причин
Нет к тому, чтобы желтый упал апельсин.
Хоть согнет ветер яростно желтую розу,
Роза красная ветра отвергнет угрозу.
Я слова говорю, о любимая мать!
Но не им, — только сердцу должна ты внимать.
Попечалься немного, проведав, что ало
Пламеневшего цвета на свете не стало.
Если все же взгрустнешь ты ночною порой,
Ты горящую рану ладонью прикрой.
Да подаст тебе долгие годы создатель!
Все стерпи! Унесет все невзгоды создатель.
Я твоим заклинаю тебя молоком
И своим, на руках твоих, утренним сном,
Скорбью матери старой, согбенной, унылой,
Наклоненной над свежей сыновней могилой,
Сердцем смертных, что к праведной вере пришли,
Повелителем солнца, и звезд, и земли,
Сонмом чистых пророков, живущих в лазури,
Вознесенных просторов, не ведавших бури,
Сонмом пленных земли, сей покинувших край,
Для которых пристанищем сделался рай,
Животворной душой, жизнь творящей из тлена,
Созидателем душ, уводящим из плена,
Милосердных деяний живою волной,
Повеленьем, весь мир сотворившим земной,
Светлым именем тем, что над именем каждым,
Узорочьем созвездий зажженным однажды,
Небесами семью, мощью огненных сил,
Предсказаньем семи самых светлых светил,
Знаньем чистого мужа, познавшего бога,
Чутким разумом тех, в чьем сознанье — тревога,
Каждым светочем тем, что зажжен был умом,
Каждым сшитым людьми для даяний мешком,
Головой, озаренной сиянием счастья,
Той стопой, что спешит по дороге участья,
Многомудрых отшельников светлой душей,
Их всевидящим взором, их верой большой,
Ароматом смиренных, простых, благородных,
Добронравьем людей, от желаний свободных,
Добротою султана к больным, к беднякам,
Нищим — радостным, словно властитель он сам,
Свежим веяньем утра, душистой прохладой,
Угощенья нежданного тихой усладой,
Позабывшими сон за молитвой ночной,
Слезы льющими, странствуя в холод и зной,
Стоном узников горьких в темнице глубокой,
Той лампадой михраба, что в выси далекой,
Всей нуждой в молоке истощенных детей,
Знаньем старцев о немощи старых костей,
Плачем горьких сирот, — тех сирот, у которых
Только скорбь, унижением странников хворых,
Тем скорбящим, что скорбью в пустыню гоним,
Тем, чьи ногти синеют от лютости зим,
Неусыпностью добрых, помогу дающих,
Долгой мукой несчастных, помоги не ждущих,
Тем страданьем, которое рушит покой,
Беспорочной любовью, блаженной тоской,
Побеждающим разумом, — смертным и бедным,
Воздержаньем отшельника, — мудрым, победным,
Каждым словом той книги, что названа «Честь»,
Человечностью той, что у доблестных есть,
Тою болью, с которой о ранах не ропщем,
Тою раной[486], что лечат бальзамом не общим,
Тем терпеньем, что должен влюбленный иметь,
Тяжким рабством попавшего в сладкую сеть,
Громким воплем безмерной, безвыходной муки,
В дни, когда протянуть больше не к кому руки.
Правдой тех, чей пример благочестья высок,
Откровеньем, которое слышит пророк,
Неизбежной дорогой, великим вожатым,
Помогающим смертным, тревогой объятым,
Тою дверью, земли отстраняющей ложь,—
Той, которою ты вслед за мною уйдешь,
Невозможностью видеть мне лик твой незримый,
Невозможностью слышать твой голос любимый,
Всей любовью твоей, — да продлится она! —
Этой помощью, — всем да не снится она!
Сотворившим и звезды, и воды, и сушу,
Давшим душу и вновь отнимающим душу,—
Развернув этот шелк в почивальне своей,
Ты не хмурь, о родимая, черных бровей,
Не грусти, не носи похоронной одежды,
На удел бытия вскинь бестрепетно вежды,
Скрой рыданья свои, чти сыновний венец,
Вспомни то, что и солнцу наступит конец.
Если был этот мир не для всех скоротечным,
Ты стенай и рыданьем рыдай бесконечным.
Но ведь не жил никто бесконечные дни.
Что ж рыдать! Всех усопших, о мать, вспомяни.
Если все ж поминальной предаться ты скорби
Пожелаешь, ты стан свой в печали не горби,
А в обширном чертоге, где правил Хосрой,
С угощеньями царскими стол ты накрой.
И, созвавши гостей во дворце озаренном,
Ты, пред яствами сидя, скажи приглашенным,—
Пусть вкушают всё то, что на этом столе,
Те, у коих нет близких, лежащих в земле.
Ты взгляни: если есть все безгорестно стали,—
Обо мне, о родная, предайся печали.
На, увидев, что яства отвергли они,—
О лежащем в земле ты печаль отгони,
Обо мне не горюй, подошел я к пределу.
К своему возвращайся печальному делу.
Можно долго по жизни брести дорогой,
В должный срок все ж о камень споткнешься ногой.
Срок назначен для всех. Мать, подумай-ка строго:
Десять лет иль сто десять, — различья немного!
Мчусь я в восемь садов[487]. Бестревожною будь!
Дверь к блаженству — с ключом и со светочем путь.
Почему не предаться мне радостной доле?
Почему не воссесть мне на вечном престоле?
Почему не стремиться мне к месту охот,
Где ни тучи, ни пыли, ни бед, ни невзгод?
Пусть, когда я уйду из прекрасного дома,
Будет всем, в нем оставшимся, грусть незнакома.
Пусть, когда мой Шебдиз в звездной выси края́
Поспешит, — мой привет к вам домчится, друзья!
Волей звезд я унесся из тесной ограды.
Быть свободным, как я, будьте, смертные, рады!»
Царь письмо запечатал и в милый свой край
Отослал и забылся: направился в рай.
В ночь до самой зари все стенал он от боли,
Днем страдал Венценосец все боле и боле.
Снова ночь. В черный саван простор облачен.
Небосвод — под попоною черною слон.
Солнце лик свой, укрытый за мрака краями,
Стало с горестным стоном царапать ногтями.
Звезды ногти остригли в печали, — и мгла
В серебристых ногтях над землей потекла.
Царь свой лик опустил; царь склонился на локти,
И вдавила луна в лик свой горестный ногти.
Всю полночную мглу тканью сделать смогли.
Чьи-то руки, и мгла скрыла плечи земли.
Яд смертельный, добытый из глотки Денеба,
В горло месяца влили, не слушаясь неба.
Государь изменился, печалью томим,
Смертный час он увидел над ложем своим.
Кровь застыла в ногах, словно сдавленных гнетом,
От кипения крови покрылся он потом.
Смертный миг отобрал черноту его глаз.
Погасал его свет, наступил его час.
Изнемог он душой, и душа улетела:
Срок пришел для души, поспешавшей из тела.
С благодатной улыбкой, стремясь к забытью,
Возвратил он создателю душу свою.
Так легко он угас в тьме мучительной ночи,
Что сей миг пропустили взирающих очи.
Птица быстрая тотчас взлетела туда,
Где приметила свет неземного гнезда.
Много мудрых. Но мудрости даже бескрайной
Овладеть невозможно великою тайной.
Если знающий вник в суть неведомых дел,
Почему сам себе он помочь не сумел?
Царь покинул свой дом в мире темном и бурном
И престол свой поставил в пределе лазурном.
Много благ от него видел горестный свет,
Но обидой и злом был от света ответ.
Уходя за завесу, овеянный славой,
Все ж он лютой земли суд изведал неправый.
Хоть устал он душой, по дорогам спеша,
Новый путь обретя, торопилась душа.
Отовсюду, куда бы ни гнал он гнедого,
Слал он вести; текли они снова и снова.
Почему же, отправясь в безвестность, не смог
Хоть бы весть он прислать с неизвестных дорог?
Да! Ушедшие вдаль из-под самого крова
Забывают все тропы звучащего слова.
Если б знать нам о том, что укрыто от глаз,
О таимых путях мой поведал бы сказ.
…Царь велел, уж предчувствуя с миром разлуку,
Вверх из гроба поднять его правую руку
И, вложив горстку праха в бессильный кулак,
Возвещать, всем подав этот горестный знак:
«Царь семи областей! Царь пространства земного!
Царь! Единственный царь! Всех могуществ основа!
Все богатства стяжал сей прославленный шах,
Но в его кулаке ныне только лишь прах.
Так и вы, уходя, — звезды злы и упрямы! —
Горстку праха возьмете сей мусорной ямы!»
Шахразур покидая, царя унесли
От врагов в даль египетской мирной земли.
…И, покинув царя, от Египта границы
Все ушли. Царь остался во мраке гробницы.
Нрав у мира таков: с многомощным царем
До конца он дойдет и забудет о нем.
Много тысяч владык эту участь познали,
И течет этот счет в бесконечные дали.
Но избегнуть нельзя рокового пути,
И конца этой нити вовек не найти.
Не постичь звездной тьмы над пределами шара,
Ты для песен о том струн не трогай дутара!
…Дел мирских избегай, перед ними дрожа,
Ведь безмолвная рыба избегла ножа[488].
В бурю дня правосудья[489], поверь, не могли бы
Утонуть только люди, что были б как рыбы.
Мир лавчонкой мотальщика шелка я счел:
В ней и с пламенем печь, и с водою котел.
В ней на обод один мастер тянет все нити,
А с другого снимает. В уме сохраните
Изреченье: «Весь мир наш, который так стар,—
Снизу сумрачный прах, сверху — блещущий пар».
Все в борьбе тяжкий прах с легкой областью пара,
И друг другу они словно вовсе не пара.
Если б ладило небо с землею, пойми,
Издеваться не стало б оно над людьми.
Низами! Не влекись в сеть подлунного края,
Ничего не страшась и других не пугая.
Если в гости к себе приглашает султан[490],
Не раздумывай: знак отправления дан.
На пиру, распрощавшись с обителью нашей,
Ты предстань пред султаном с подъятою чашей.
Искендер, выпив чашу, как роза, расцвел,
Вспомнил бога, уснул, бросил горестный дол.
Всем испившим ту чашу, — благая дорога!
Все забыв, поминайте единого бога!
Прибытие послания Искендера к его матери