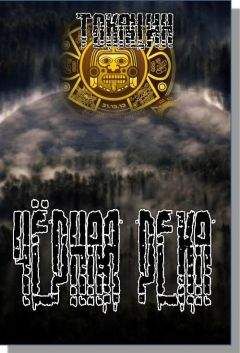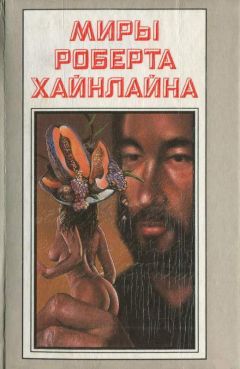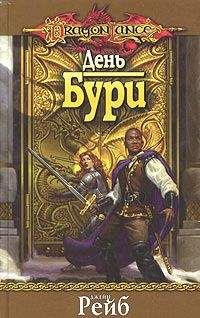Корнелия Добкевич - Штольня в Совьих Горах
А за ним, шаг в шаг, Утопец шел и, за спиной его прячась, на дудке тростниковой высвистывал. Ветер же, приятель владыки речного, песней заунывной ему вторил среди веток ольховых:
Вечерней порою
На мельнице скроюсь…
Под ветхой стрехою
Тоскливо завою…
От такой песни, от посвистов странных и пронзительных звуков тростниковой дудки, что неведомо откуда раздавались — мурашки по спине у старосты-отступника забегали. Чувствовал он, что кто-то ступает за ним, что над самым ухом играет и поет ему кто-то невидимый, но боязно ему оглянуться было, и не знал он — кто?
Страхом гонимый, двинулся Шимон по трещавшим ступеням на крышу мельницы, а ветер ворвался в сени через открытые двери и швырнул на голову перепуганному старосте мешки старые, из которых на него мука затхлая посыпалась. Перестал играть Утопец и сильно лестницу раскачал, а потом начал с грохотом ящики переворачивать. В темноте не жалел старосте тумаков — бил его палкой суковатой, что на дне реки нашел.
Волосы дыбом поднялись на голове у Шимона, холодный пот выступил на лице его, но всё-таки помнил отступник о гневе генерала прусского и о том, что обязан по его приказу доставить в деревню знамя с черным орлом. Поэтому, хоть и страх его к земле гнул, взобрался всё же староста на крышу, руками за полотнище знамени ухватился и уже сорвать было его хотел…
— Что-о-о? — завыл тут ветер над головой Шимона. — Дар хочешь отобрать? А ну, посмей только!..
— Посмей только!.. — у самого уха Клосека прошептал Утопец. Покрылся он клубами тумана, который по его знаку над рекой поднялся, и, невидимый старосте, ухватил полотнище атласное с другой стороны. — Не дам!.. Не дам! — повторял грозно.
Стали они тут тащить знамя каждый в свою сторону, да так метаться, что старая мельница вдруг качнулась, затрещала и начала медленно погружаться в речку, которая неожиданно переменилась совсем. Вместо того, чтобы к Особлоге течь, как прежде, и силой быстрого потока колеса мельничные вращать — сама в большую реку превратилась. А на ней полно водоворотов и недоступных глубин образовалось…
Но староста ничего не замечал: всё еще исступленно пытался он из рук противника невидимого знамя прусское вырвать. Об одном только думал — как бы ему приказ генерала выполнить и милость его заслужить. А волны речные тем временем еще выше поднялись, вспенились, зашумели и вдруг на крышу тонущей мельницы обрушились…
Громко захохотал Утопец и, словно рыба огромная, исчез в волнах. А мельница вместе со старостой-отступником вдруг с треском в бурлящую воду погрузилась. Потом всё исчезло, и тишина наступила. Среди ольхи, как и прежде, речка спокойно текла и несла воды свои в Особлогу, а в камышах прибрежных птицы перекликались…
Тщетно поджидал генерал Манштейн старосту Клосека. Вот уж и вечер наступил, а Шимон так в деревню и не вернулся. Но не захотел упрямый пруссак уехать из Замлынской Гурки не доведавшись, какая судьба постигла знамя его короля.
Утром велел коня себе оседлать и сам лично, во главе кирасиров, к реке поехал — на мельницу посмотреть.
Миновали пруссаки поля с ровно стоящими копнами хлебов, скошенный клевер на участке Станека, ольховую рощу. На луга прибрежные выехали. Однако и следа моста на Особлоге не нашли. Не было также и мельницы, что стояла на широкой речке, в Особлогу впадавшей. Спокойно волны, о берег плескались, сухие ветки да стебли травы несли, к берегу их прибивая.
Сошел с коня Манштейн и у самой воды остановился. В изумлении на ее быстрый бег посмотрел.
— Но где же эта мельница? Где наше прусское знамя? — обратился он к своим кирасирам.
Молчали они.
— Где же мельница? — шептали устрашенные люди.
Но только плеск реки был им ответом. Спокойно катились волны, переливаясь на солнце, словно чешуя серебристая. А потом, из каких-то глубин далеких, вынесла река и выбросила у самых ног изумленного генерала древко от знамени — поломанное. Прошло минут несколько, и вот уже волны выбросили знамя с орлом прусским, надвое разодранным — будто чьи-то неведомые руки изо всей силы тащили его в разные стороны…
КАК УТОПЕЦ КУБЕ НА ПЛОТИНЕ ПОКАЗАЛСЯ
На берегу Жабьей Струги[9], неподалеку от деревни Кокотинец, был у старушки Сквожины хороший надел луговой — как раз у плотины, за мельницей. Поседела старушка, сгорбилась от трудов непосильных в поле и дома, лицо ее, опаленное солнцем, глубокие морщины избороздили, а слезы, которых немало она в жизни пролила, начисто блеск ее глаз вымыли.
В убогой лачужке бабки Сквожины подрастал внучек ее единственный, Куба, — крепкий, будто дубок молодой, румянолицый и светловолосый. В нем одном видела Сквожина всю надежду жизни своей, потому и любила его безмерно, и пестовала с малых лет. И хотя не раз в хату к ним нужда заглядывала — не было случая, чтобы Кубе похлебки не хватило или башмаков на зиму.
Тринадцатый годок уже парню миновал, почти что до отцовых рубах дорос, но малую пользу он бабке приносил в хозяйстве: не было во всём Кокотинце другого такого лентяя и сони.
Тщетно учитель в школе сурово его наставлял, тщетно дядья и тетки пытались из него эту противную леность выбить — Куба только обеду и ужину рад был, а на косы и грабли глядеть не хотел. А если и выйдет на луг, еще меньше проку: когда бы ни пришлось сено ворошить или в стог его метать — Куба раз-другой махнет граблями, под молодым буком уляжется, да и спит себе до вечера. Частенько таким манером и сено замокнет — не больно-то парень спешил подгрести его, да на сеновал отправить.
А тем временем старушке всё труднее работать на лугу становилось. Восьмой десяток Сквожина доживала, поэтому всё чаще приходилось ей на луг Кубу посылать…
И вот однажды ленивый парень, вместо того, чтобы работать, разлегся поудобнее под любимым своим буком, что на краю луга рос, а новые деревянные грабли возле себя положил. Жаркий полдень был, солнце сильно припекало, а Жабья Струга совсем медленно текла меж берегов, всякой зеленью водяной поросших. Лежал Куба как раз напротив плотины, что поперек Жабьей Струги была поставлена. Плотину эту можно было перекрывать наглухо, тогда уровень в речке повышался, и как бы маленькое озерко образовывалось. А когда затвор поднимали, вода сильной струей на мельницу текла и колесо мельничное вращала.
Приятно на ветру листьями бук шелестел, в траве кузнечики стрекотали. Надвинул Куба соломенную шляпу на самые глаза и заснул сладко. И показалось ему сквозь сон, будто кто ходит по лугу, но подумал лениво, что должно быть это дети из школы кратчайшим путем возвращаются, и спокойно себе дальше подрёмывал.
Когда проснулся Куба, солнце уже низко над лесом светило. Путь свой дневной заканчивая, оно в золото и пурпур небо окрасило. Огляделся Куба вокруг себя и вдруг вскочил, словно ужаленный: нету возле него грабель новых! Забегал он по лугу туда и сюда, под кустами начал шарить, в некошеную еще траву заглянул — нигде грабель не видно. А тут и новая беда глазам его открылась: кто-то поломал остревки[10] — тонким концом в землю их позабивал!
Собрал обломки растерявшийся Куба и под бук их кинул. А потом задумался: у кого бы из соседей новые остревки одолжить? И вспомнил вдруг, что бабка с утра еще наказывала ряски водяной для маленьких утят принести, которых со двора не выпускали. Сеть и банку для ряски Куба завсегда в старой лодке прятал: много лет она уже в камышах стояла и до половины в иле увязла. Побежал он к лодке, но к удивлению своему не нашел там ни сети, ни банки: кто-то тайком забрал их оттуда! Зато бросил в зарослях прибрежных грабли его — все грязные, измазанные и с поломанными зубьями.
— Вот же бестия! — в отчаянии закричал Куба. — Такой шкоды нам тут натворил, гадина! Видать тот самый шалил, что на лугу шлялся, когда я спал…
Чуть не заплакал Куба со злости — и грабель новых жалко, и бабки побаивался. Неведомо, как проспал парень чуть не до вечера, пора в Кокотинец возвращаться, а как тут вернешься, если грабли поломаны? Затоптался тут Куба; неохота домой идти, а вода ласково о берег плескалась и так к себе манила свежестью своей — искупаться после знойного дня, — что парень мигом сбросил рубашку и штаны заплатанные. Но только он в воду вскочил, как сразу почувствовал, будто кто его по ступне щекочет. Подумал он, что это стебель кувшинки речной, и, опустив руку, пошарил на дне. А это была сетка его, которой он ряску водяную собирал для утят! Когда же к берегу подошел, то под вербой, что ветвями над самой водой нависала, увидел банку свою — сильно помятую и полную сора всякого. «Мало ему, бездельнику, грабли поломать, так еще и банку погнул!» — с обидой подумал Куба и стал распрямлять ее камнем.
Хмурый, огорченный, возвращался Куба в село и нёс на плече грабли измазанные.