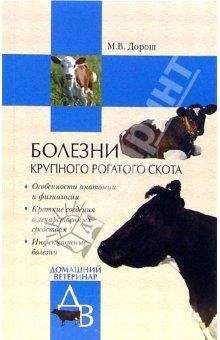Тимур Пулатов - Плавающая Евразия
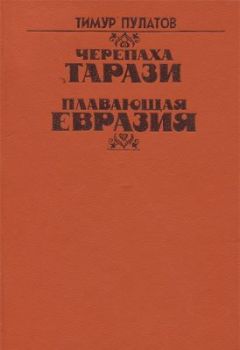
Обзор книги Тимур Пулатов - Плавающая Евразия
Тимур Пулатов
Плавающая Евразия
I
На тонком, как волос, мосту Сират стоял, покачиваясь, толстяк с тростью в руке, и блуждающий взгляд его искал точку опоры. Отчаявшись, он сделал вдруг жест, от которого у меня, наблюдавшего за ним, сжалось от ужаса сердце. Что он задумал, о господи?! Уж не собирался ли броситься в небытие?
Но толстяк сделал шаг, и пламя, колышущееся под мостом, чуть не опалило ему лицо. Словно меж кривых зеркал, лицо его дробилось на множество лиц. Мелькнул Гомер, но не натуральный эллин, а такой, каким мы привыкли видеть его у себя, в Шахградском музее первобытного человека, классический, отлитый в бронзе, с холодными, отталкивающими выемками вместо слепых глаз; внутренним зорким оком обозревал Гомер путь; мелькание зеркал — и взор наш еле успел выхватить из серого тумана лик Наполеона с хищным, волевым носом под маршальской треуголкой; честолюбивый корсиканец тоже смотрит напряженно вдаль, по длине моста, и левое веко его нервно вздрагивает… Промелькнула и скучная физиономия моего знакомого Давлятова. Руслана Ахметовича… Собравшись с духом, гражданин на скользком от звездной пыли мосту выпрямился, удержавшись на весу, чтобы сделать следующий шаг.
Давлятова я не без умысла выделил в зеркальном калейдоскопе. Событие, взбудоражившее более чем миллионное население нашего Шахграда, началось с порыва тщедушного, сомневающегося во всем Руслана — полукровки да к тому же полушовки [1], мать которого после развода с Ахметом Давлятовым, лет десять тому, уехала с сыном в Москву, откуда Анна Ерми-ловна была родом.
Воистину, когда событие плесневеет от застоя и протухает, его может случайно обдать свежим ветерком взмах нервных рук простого смертного. И тогда событие начинает катиться, вовлекая в свой вихрь и чертыхающихся председателей градосовета, таких, как наш Адамбаев, занятых по горло текущими делами и посему считающих, что любое событие подкатывается всегда не ко времени.
Так вот, Руслан — виновник события, не особенно выделяясь, изучал в Ломоносовском университете геологию с уклоном в сейсмологию — не был ни горячим балагуром, ни компанейским вралем, ни авантюрным воздыхателем. Само застоявшееся время лепило для собственного утешения вот таких плоскогрудых типажей плюс всякие наследственные выверты, замешенные на черноте чужеродных кровей. И возможно, как суждено, так прожил бы Давлятов-младший и дальше, довольствуясь скромным жалованьем сейсмосмотрителя высотных домов, если бы не очередная московская мода, которая вдруг переменила его жизненный статут.
Известно, что тихий Давлятов тянулся к натурам вздорным и истеричным, хотя и побаивался их и всегда с трепетом ждал подвоха. И вот один из его университетских приятелей, не признанный пока гений-стихотворец, некий Новогрудский, ввел смуглого, с восточными чертами лица Давлятова в литературно-артистический салон, который собирался на обычной, тесной квартире.
Как рассказчику мне не терпится признаться: цель моя ни в чем и нигде не бросить даже тени на Давлятова, скорее, наоборот, желаю выступить его горячим защитником, хотя я, как и все рядовые жители Шахграда, немало натерпелся в те сумасшедшие дни. Есть веские причины моего незамутненного отношения к Давлятову — их-то я и буду излагать по ходу… Впрочем, был бы рад, если строгий редактор попытался бы и вовсе изгнать мою персону из круга событий, чтобы переложить бремя рассказа на другого, более доверенного, что ли… хотя я сомневаюсь и в этом доверенном, он, как и все, заражен невинной болезнью нашего времени — желанием высказаться сполна — и все по личному поводу, по мелкому, от душевного плоскостопия… будто твердым солдатским шагом прошло время по душам…
В тесной квартире, о которой шла речь, к Давлятову стали приглядываться и прислушиваться, ибо в тот период мода с африканских ритуальных масок и засушенных скальпов шаманов, привозимых с Черного континента дароподносителями из университета Лумумбы, перешла на все восточное, точнее, среднеазиатское. С плоскости земли, зажатой двумя пустынями — Кара- и Кызылкумами, повеяло чем-то сверхъестественным, что должно было принести спасение от тщеты скоропортящейся современной жизни. Будто сама вечность мелькнула вдали и приблизилась, всматриваясь строго в нас.
Еще одним натуральным свойством Давлятова была его способность справляться с ощущением ущемленности и чувствовать себя уверенным, даже самоуверенным, когда видел он к себе всеобщее внимание. И вот уже передавали из уст в уста окрашенный меланхолическим восточным юмором рассказ Давлятова о некоем среднеазиате, который, будучи послан на Всемирную выставку породистого скота, носил всюду с собой по Москве копыто жеребца, обладающее магической силой и указывающее среднеазиату путь из самых запутанных лабиринтов столицы — прямиком во Всесоюзный Дом колхозника, где коротали вечера в тесноте его земляки. И другой коронный рассказ восточного гостя в московских салон-квартирах, который все слушали затаив дыхание в предвкушении многослойного смысла. О том, как приаральский народ, сидя на барханах, смотрел еще в довоенное время фильм о командарме, и когда лихой воин в ярости, обнажив саблю, помчался по огромному, как поле, белому полотнищу, натянутому между столбов, все увеличивался крупно и прямо на зрителей, — все дрогнули и разбежались в ночной мгле, ибо показалось им до жути, что всадник на полном скаку вылетит сейчас из полотнища, чтобы, прыгая с бархана на бархан, накрыть их, как смертный вихрь, — так было все мастерски снято, что реальность смешалась в головах неискушенных детей пустыни с вымыслом и све-тоигрой звукотехники.
А ведь речь шла не о каких-нибудь двадцати или тридцати зрителях, а о тысяче, о целом племени, напуганном до смерти мелькающими картинками цивилизации. Пропал народ, который уже хотели приобщить к текущему и привычному для нас времени, рассеялся по пескам и верблюжьим тропам. Долго искали его посланные уполномоченные, чтобы собрать, успокоить на теплой груди матери всех городов — Шахграда, а затем вернуть к привычной жизни на плоскости между морем и плато, а когда собрался народец, депутаты заметили в нем странную перемену. Детский и озорной блеск, некогда смущавший уполномоченных Шахграда, сменился у беглых зрителей налетом умиротворенности, будто от долгого блуждания по пескам постигли они некий высший смысл, обреченно успокоились, благоговея перед высотой и глубиной жизни, которая не ведает вопросов и ответов, а значит — и страха, тления, радостных воспоминаний и упреков… Жизнь теперь виделась им как поток, который несся, подобно песку, с верхушек барханов, где нет следов доисторического человека, — ее надо было принимать безропотно, тихо внимая звуку шелестящего песка…
Сам же Давлятов мало-помалу обнаружил в себе, не без удивления и восторга, талант колдуна-гипнотизера. Говорил теперь возбужденно, жестикулируя, закатывая глаза, поднимая нервные руки над головой. Эффект! Мистический фимиам его рассказов уже густо растекся по салон-квартире Пташковской, где духовные переживания выражались в таинственных ритуалах, среди которых была особенно предпочтительна «Поза Лотоса».
Сам же Давлятов урвет часок-другой от повседневных своих скучных занятий сейсмосмотрителя, бежит в библиотеку Восточного института, где жадно читает буддийских авторов, Конфуция, мусульманские предания — хадиси — из жизни пророка Мухаммеда. В «Книге о Начале и Конце» аль-Кисаи его особенно впечатляет образ моста Сират, перекинутого через всю Вселенную… И вот уже в салон-квартире Пташковской он рассказывает о своем чудесном вознесении… будто нервная энергия, которую он в себе накопил, отрешенный от всего земного, что мелькает, летает, звучит и мучает аллергическими запахами вне его телесной оболочки, вознесла его как-то под утро через первые, вторые, третьи круги неба, и, к своему удивлению, он обнаружил бредущих по мосту Сират Гомера, Наполеона, Навуходоносора, патриарха Моисея, Иосифа Сталина и, кажется, самого Адама… этакого лукавого бодрячка, каким предстал он в рисунках художника-атеиста Жана Эффеля, оригинальный ум Давлятова все осмыслял несколько шаржиро-ванно.
— Волнующий полет, — рассказывал Давлятов. — За всю историю человечества подобное испытал лишь пророк Мухаммед во время своего мираджа [2]. Только чистое, незамутненное сознание способно… — втолковывал Давлятов бесстрастно, но пророческого тона не выдерживал и торопливо внушал, что истина, идущая из космоса, может озарить лишь тех, кто, самосовершенствуясь, стал способен на глубокое внутреннее восприятие. Таких, увы, единицы. Остальные глухи, эгоистичны, порочны. Но какая благость посетит избранных…
И еще открылся ему образ Небесного Лотоса, плавающего поверх седьмой сферы, — как бы жилище Вседержателя истины… И на всей площади квартиры, в ее смежных комнатах, кухне и даже темной прихожей, застывали все в ожидании того священного мига, когда озарит их луч, идущий с Небесного Лотоса Истины… И разольется энергия дальше, уже вне дома в Теплом Стане, где живет Пташковская, явится чудо в образе хромающего клоуна, спотыкающейся ломовой лошади, летающего огненного шара, ползающей черепахи. И будет это телесное выражение густого восточного, а точнее, среднеазиатского духа, сотканного из света и тьмы — материнского и отцовского начала начал…