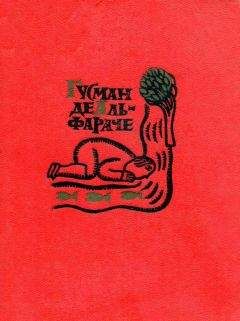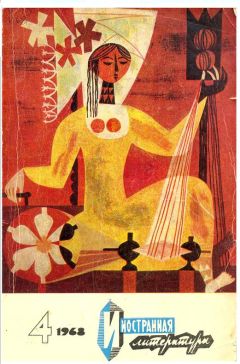Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть вторая
Вспомним Иова:[177] как его донимала жена, как пилила, — многострадальному только и оставалось, что воззвать к господу, моля защиты от несносной жены, худшей из всех постигших его бед. Или еще. Беседовали однажды три друга. Один сказал: «Блажен тот, кто женился на хорошей женщине». Второй возразил: «Блаженней тот, кто, женившись на дурной, вскоре ее потерял». А третий заметил: «Блаженней всех почитаю я того, у кого вовсе не было жены, ни хорошей, ни дурной».
Сколь тяжко терпеть жену дерзкую и сварливую, о том мог бы рассказать некий провансалец, которому до смерти надоела брань его супруги; угомонить же ее не было никакой возможности. И чтобы избавиться от жены без сраму для себя, надумал он поехать со всеми домочадцами и челядью на отдых в свое деревенское поместье, а дорога туда пролегала по склону горы вдоль Роны. Река эта весьма многоводна и в том месте, зажатая в узком русле меж двух гор, особенно глубока и бурлива. Перед тем как отправиться в путь, провансалец три дня не давал пить мулу, на котором должна была ехать его супруга. И когда мул завидел воду, никакой силой нельзя было его удержать: с одного камня на другой спустился он по склону и вошел в реку. Течение понесло его, мешая выбраться на берег или хотя бы устоять, и мул со своей ношей ушел под воду. Женщина утонула, а мул выплыл и добрался до берега уже вдали от того места, причем так выбился из сил, что не мог стоять на ногах.
Для тех, кто не изведал прелестей супружества и жаждет их, полезно выслушать историю про дроздов. Летом, когда вывелись птенцы, слетелась дроздов целая туча, даже в воздухе от них потемнело, и всем скопом отправились они на поиски пропитания. Добравшись до местности, где было много тенистых садов с плодовыми деревьями, дрозды порешили там остаться, радуясь, что нашли приветный и изобильный край. Но когда жители увидели такое множество птиц, они принялись расставлять сети, силки и безжалостно уничтожать непрошеных гостей.
Спасаясь от преследований, дрозды перелетели в другой край, не хуже прежнего, но и там их постигла та же участь; пришлось снова бежать от смерти неминучей. Так странствовали они по многим местам, пока почти все не погибли; тогда оставшиеся в живых положили вернуться на родину. Их земляки, видя, какие они стали жирные да пригожие, сказали: «Ах вы счастливцы! А мы-то, несчастные, совсем здесь отощали! Как вы раздобрели, как блестят ваши перышки — загляденье, да и только! От сытости вы едва летаете, а мы с голодухи дохнем».
На это странники им отвечали: «Вы завидуете, что мы жирные, только это и замечаете; а подумали бы о том, как много нас было, когда мы улетали, и как мало вернулось, тогда вы уразумели бы, что лучше жить в нужде, да безопасности, нежели пребывать в роскоши, всечасно трепеща за свою жизнь».
Кто завидует утехам супружества, не замечая, что из десяти тысяч едва ли наберется десяток счастливцев, тому я советовал бы предпочесть одинокую, но спокойную жизнь холостяка бедствиям и тревогам неудачно женатого.
Подошло время обеда, накрыли на стол, и мы, слуги, стали подавать кушанья, причем я не сводил глаз с хозяина, стремясь угадать малейшее его желание. А меж тем злобный Сото замышлял мою погибель. Испробовав, все средства, он пустил в ход подкуп. Стакнувшись с пажом кабальеро, таким же негодяем, как сам, Сото подговорил его навредить мне, пообещав за то пару красивых чулок. Паж, прислуживая за столом, должен был стащить что-либо из серебряной посуды и тайком от меня спрятать украденную вещь в моей каморке. Сделав это, сказал Сото, он достигнет двойной цели: во-первых, получит в награду чулки, а во-вторых, он и его товарищи, лишив меня хозяйского благоволения, снова войдут в милость.
Замысел понравился пажу, и в тот день, во время обеда, ему удалось стянуть серебряное блюдо. Спустившись в мою комнату, он засунул блюдо под доску в обшивке галеры. Когда обед кончился, я собрал серебро, чтобы его почистить, и сразу заметил пропажу. Кинулся я искать блюдо и, не найдя его, доложил хозяину, умоляя обыскать всех слуг, заходивших в каюту. Сперва капитан и кабальеро поверили моим словам, но Сото пустил слух, что блюдо украл я и, злоупотребляя доверием хозяина, валю вину на других.
Негодник паж подпевал ему; хозяин, слыша эти разговоры, заподозрил меня и стал уговаривать сознаться, пока дело не приняло худой оборот. Что я мог сказать в свою защиту? Совесть моя была чиста, но мне не верили. Паж коварно посоветовал осмотреть каморку, говоря, что блюдо я наверняка унес туда, — я, мол, во время обеда никуда с кормы не уходил, и блюдо непременно сыщется в моем жилье.
Совета послушались, спустились вниз и, обшарив всю каморку, нашли блюдо там, где паж его спрятал. Тут все в один голос сказали, что раз спрятано в таком месте, значит, это моих рук дело. Улики были налицо, все мои доводы сочли запирательством, подозрения подтвердились, и меня признали виновным.
Капитан приказал помощнику альгвасила всыпать мне полсотни плетей, но за меня заступился хозяин и уговорил на первый раз простить; однако меня предупредили, что ежели попадусь вторично, то расплачусь за оба раза. С той поры я жил в вечной тревоге и страхе — теперь уже не из-за прошлого, а из-за будущего, ибо понимал, что тот, кто учинил мне такую пакость, на этом не остановится. Опасаясь худшей беды, я богом заклинал кабальеро уволить меня от должности, передать другому вверенное мне добро и приковать меня снова к скамье. Тогда решили, что я хочу вернуться к надсмотрщику, прежнему моему хозяину. Чем больше я просил, тем суровей мне говорили, что ежели я так упрям, то хочу или не хочу, а останусь у кабальеро до конца дней своих.
«Горькая моя доля, — думал я, — что мне делать, как уберечься от недруга!» Я старался, как мог, ночи не спал, дрожал над каждой мелочью, но все было тщетно. Близился час моего вознесения, а чтобы подняться, надо сперва упасть.
Однажды вечером явился с берега мой хозяин, и я, как обычно, вышел встретить его на сходни. Подав руку, помог ему взойти на галеру, взял у него плащ, шляпу, шпагу и принес домашнее платье и монтеру из зеленого дамаска, которые всегда держал наготове. А выходной его наряд снес вниз и положил каждую вещь на место.
Ночью кто-то сбросил шляпу кабальеро с гвоздя, на котором она висела, и похитил дорогую ленту с золотом. Ума не приложу, как и когда это сделали, — не иначе как вору помог сам дьявол. Найдя утром шляпу на полу, без ленты, я обмер от ужаса. Поиски ни к чему не привели, ленты словно не бывало.
Доложил я об этом хозяину, а он говорит:
— Что ты вор, я давно знаю и вижу тебя насквозь. Но больше меня не проведешь, а без ленты и на глаза не являйся. Думаешь, я забыл о серебряном блюде и не замечаю, как ты, неблагодарный, увиливаешь с тех пор от службы? Так не бывать по-твоему, хоть ты лопни! Прикажу сечь тебя каждый божий день, но знай, другого хозяина у тебя на галере не будет. Да если бы не я, с тебя, негодяя, всю шкуру бы содрали за твои плутни и наглость. Хотел я, чтоб было по-хорошему, но, видно, добром тебя не исправить, ты навсегда останешься Гусманом де Альфараче — этим все сказано.
Как описать тебе безмерную скорбь мою при столь незаслуженном обвинении! Ничего не сказал я в ответ, не нашлось у меня слов, впрочем, Священному писанию в моих устах поверили бы не больше, чем Магомету.
Итак, я смолчал: чем произносить бесполезные слова, лучше прикусить язык и сердцем высказать их господу; возблагодарив его в душе, я молил не покинуть меня, так как против него я уже не грешу. И поистине к тому времени я настолько переменился, что скорее дал бы разрезать себя на куски, нежели совершил бы самый ничтожный проступок.
После долгих и тщетных розысков ленты капитан приказал помощнику альгвасила бить меня, пока не сознаюсь. Принялись тут за меня палачи. На их стороне была сила, мне оставалось лишь терпеть. Они требовали признания в том, чего я и знать не знал. Я же в душе припоминал прежние грехи и молил небеса присовокупить мои муки и кровавые раны от жестокого бичевания к невинной крови, пролитой за меня Христом, и даровать за нее спасение душе моей, ибо в живых остаться уже не чаял.
Меня чуть не засекли до смерти; кабальеро полагал, что я, закоснев в упорстве, более ожесточился сердцем, нежели он, приказывая избивать меня. Но, сжалившись над моими муками, он все же прекратил истязания. Мне натерли тело солью и уксусом, что было не меньшей пыткой.
Капитан настаивал, чтобы меня отхлестали еще по животу.
— Ваша милость, — сказал он моему хозяину, — плохо знает этих мошенников; они, как лисы, прикидываются издыхающими, а только отпустишь, скачут, как жеребцы; за один реал дадут шкуру с себя содрать. Пусть этот пес знает, что придется ему распрощаться либо с лентой, либо с жизнью.
Он приказал отвести меня в каморку. Изверги и там не оставляли меня в покое, осыпая бранью и требуя вернуть украденное — все равно, мол, умру под плетьми и не попользуюсь. Но никто не может дать то, чего не имеет; исполнить их требование было не в моей власти. Тогда-то я понял, что значит быть каторжником; если прежде со мной были любезны и приветливы, то лишь ради моих шуток и острот, а не из любви ко мне. Более всего страдал я в эти горькие минуты не от телесной боли и не от обиды за навет, но от сознания, что все почитают меня достойным кары и никто не жалеет.