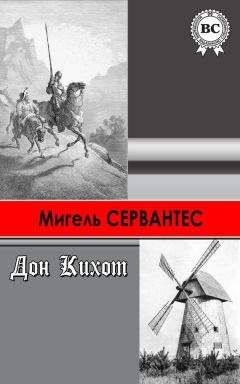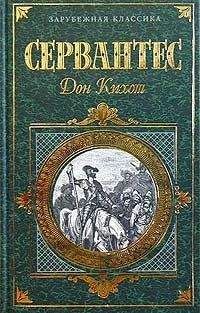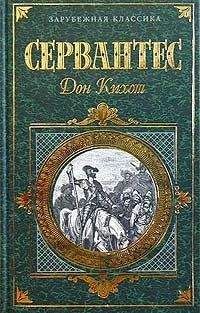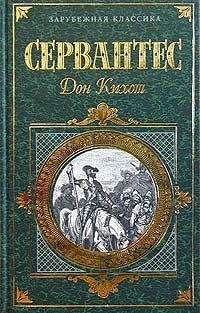Карл Мориц - Антон Райзер
В сердцевине этого желания лежало отнюдь не злорадство, но смутная тоска по великим переменам, переселениям и революциям, которые обновят облик всех вещей и нарушат однообразие повседневности.
Даже мысль о собственной гибели вызывала у него приступ некоего сладострастия, когда вечерами, прежде чем заснуть, он живо представлял себе распад и разложение своего тела.
Трехмесячное пребывание Антона в Пирмонте во многих отношениях оказалось для него чрезвычайно благотворным, поскольку он почти всегда был предоставлен самому себе и счастливо избегал близости своих родителей; мать оставалась дома, а отец за множеством дел, занимавших его в Пирмонте, мало пекся об Антоне, но когда все же видел его, обходился с ним гораздо мягче, нежели дома.
В одном доме с отцом Антона квартировал некий англичанин, который хорошо говорил по-немецки и уделял Антону больше внимания, чем кто бы то ни было прежде; он начал посредством простого общения учить мальчика английскому языку и чрезвычайно радовался его успехам. Он беседовал с ним, вместе с ним гулял по окрестностям и вскоре почувствовал, что почти не может без него обходиться.
Англичанин этот стал первым другом, которого Антон обрел в этом мире, и расставание с ним было исполнено горечи. Прощаясь, англичанин вложил ему в руку серебряную монету, сказав, чтобы Антон сохранил ее до своего приезда в Англию, где его всегда будет ждать открытый дом; через пятнадцать лет он и вправду добрался до Англии, имея при себе подаренную монету, но первый друг его юности к тому времени уже умер.
Однажды англичанин, находясь дома, попросил Антона сообщить некоему визитеру, будто он в отлучке. Но добиться этого от мальчика оказалось невозможно, так как он ни в какую не соглашался лгать.
Этот поступок высоко поднял его в чужих глазах, но был лишь одним из многих, коими он выказал себя добродетельнее, чем был на самом деле, ибо в иных случаях он без особого труда при необходимости лгал, меж тем как подлинная внутренняя борьба, в пылу которой он приносил свои невиннейшие желания в жертву мнимому неодобрению божества, – эта борьба оставалась никем не замеченной.
Тем временем слава о добродетельном поведении Антона, утвердившаяся в Пирмонте, чрезвычайно его ободрила и несколько подняла его угнетенный дух. Боли в ногах вызывали сострадание к нему, в доме господина Фляйшбайна ему оказывали дружелюбный прием, а сам Фляйшбайн, встречаясь с ним на улице, всякий раз целовал его в лоб. Подобные встречи, для него необычайные и волнующие, прояснили его чело, сделали взгляд более открытым и вселили в него бодрость.
Он также начал писать стихи, воспевая в них все, что видел и слышал. Два сводных его брата учились в Пирмонте портняжному ремеслу у наставников, приверженных учению господина Фляйшбайна. На расставание с ними, а также с домом Фляйшбайна он сочинил и выучил наизусть весьма трогательные стихи.
Возвращение из Пирмонта вышло не таким, как он ожидал, но, что ни говори, за прошедшее короткое время и сам он сделался совсем другим человеком, и духовный его мир значительно обогатился.
Вскоре, однако, из-за возобновившихся раздоров между родителями, усугубленных, вероятно, приездом двух его сводных братьев, из-за нескончаемых перебранок и скандалов, устраиваемых матерью, возвышенные воспоминания о Пирмонте и особенно о доме господина Фляйшбайна потускнели, и он снова очутился в прежней тягостной обстановке, от которой его душа становилась мрачной и нелюдимой.
Сводные братья Антона вскоре оставили их дом, отправившись в странствие, в семье на время снова воцарился мир, и отец Антона теперь сам стал читать вслух не только из мадам Гийон, но иной раз также выдержки из «Телемака» или рассказывал эпизоды древней и новой истории, довольно основательно им пройденной, поскольку помимо занятий музыкой, в коей весьма преуспел практически, он прежде постоянно пополнял свою образованность изучением полезных книг, покуда сочинения мадам Гийон не вытеснили все остальное из круга его чтения.
Речь его по этой причине была полна книжных выражений, Антон и теперь помнит, как семи– восьмилетним мальчиком он внимательно вслушивался в речь отца и удивлялся, что слова на – ание, – ение или – ство были ему совершенно непонятны, тогда как остальные не представляли никакого труда.
Кроме того, вне дома отец Антона слыл весьма обходительным человеком и умел поддержать приятную беседу обо всем и вся. Возможно, и в семейной жизни все пошло бы на лад, не имей мать Антона злосчастного обыкновения постоянно и даже охотно становиться в позу обиженной и оскорбленной – порой безо всякого повода, – и то и дело напускать на себя траур, испытывая своего рода сострадание к самой себе и тем себя услаждая.
К несчастью, сын, по всей видимости, унаследовал этот ее душевный недуг, с которым доныне принужден бороться, порой безуспешно.
Еще в детстве, когда приходилось делить что-либо на всех и надлежащая ему часть была отложена, но ему забывали об этом сказать, он предпочитал оставить ее нетронутой, хотя отлично знал, что предназначалась она именно ему, – и все это лишь затем, чтобы испытать сладость несправедливой обиды и заявить: другим еще кое-что достается, но только не мне! Но если даже мнимая несправедливость так сильно его задевала, то насколько же больнее отзывалась в нем несправедливость подлинная. И конечно, никто так остро не чувствует несправедливость, как дети, и никому столь часто и невзначай ее не причиняют, как им, – истина, о которой всем педагогам стоило бы помнить ежедневно и ежечасно.
Нередко Антон часами размышлял, тщательно взвешивая разные доводы и основания: насколько справедливым – или несправедливым – было то или иное наказание, назначенное ему отцом.
В одиннадцать лет он впервые испытал несказанное удовольствие, пристрастившись к запретным книгам.
Его отец был заклятым врагом романов и грозился сжечь первый же, что попадется в доме ему под руку. И все-таки Антону с помощью тетки удалось раздобыть роман про прекрасную Банизу, сказки «Тысячи и одной ночи» и «Остров Фельзенбург», которые он украдкой, хотя и с ведома матери, прочел, вернее, жадно проглотил, затаясь в чулане.
То были сладчайшие часы его жизни. Входя к нему, мать всякий раз пугала его приближением отца, хотя сама не запрещала ему читать эти книги, которыми успела насладиться еще прежде Антона.
Повесть об острове Фельзенбург произвела на Антона весьма сильное впечатление, вознеся на небывалую высоту его мечты, в коих он отвел себе ни много ни мало великую мировую роль собирателя сперва небольшого, но постепенно растущего круга людей, избравших его своим средоточием: круг этот раздавался все шире, и под конец буйная фантазия Антона стала вовлекать в него также животных, растения и неодушевленные создания природы – словом, все, что его обступало в жизни, и весь этот хоровод кружился вокруг него, покуда голова у него не начинала идти кругом.
В ту пору игра воображения нередко наполняла его таким блаженством, какое ему едва ли довелось испытать впоследствии.
Итак, воображение составляло главные горести и радости его детства. Как часто пасмурным днем, когда он, исполненный отвращения и досады, сидел взаперти в своей комнате, сквозь оконное стекло вдруг проникал луч солнца, и тогда в нем неожиданно пробуждались мечты о рае, об Элизии, об острове нимфы Калипсо и долгие часы услаждали его душу.
Но уже с двух– или трехлетнего возраста память Антона хранила поведанные матерью и теткой небылицы об адских муках, не оставлявшие его ни днем, ни ночью: во сне он нередко видел себя окруженным добрыми знакомцами, которые ни с того ни с сего начинали скалиться на него, до неузнаваемости искажая свои лица отвратительными гримасами, или он взбирался сумрачной тропою куда-то ввысь, а некто ужасный преграждал ему дорогу назад, либо сам черт являлся ему в виде рябой курицы или черного платка на стене.
Пока он с матерью жил в деревне, каждая встречная старуха нагоняла на него страх и ужас, так много он наслушался рассказов про ведьм и колдуний; а когда ветер в их домике насвистывал причудливую мелодию, мать не задумываясь прибегала к аллегории и замечала, что это свистит безрукий человек.
Она бы не стала так говорить, если б знала, скольких томительно-страшных часов и бессонных ночей будет стоить ее сыну этот безрукий человек.
Но подлинным чистилищем для Антона неизменно становились четыре предрождественские недели, – чтобы их избежать, он охотно отказался бы даже от елки, утыканной восковыми свечками и увешанной посеребренными яблоками и орехами.
В такую пору не проходило дня, чтобы до него не доносился либо странный гул колоколов, либо какой-то шорох за дверью, либо глухой голос, принадлежавший не иначе как предвестнику Рождества пресловутому кнехту Рупрехту, которого Антон искренне почитал за духа или за сверхчеловеческое существо, поэтому не было и ночи, чтобы он внезапно не просыпался от ужаса весь в холодном поту.