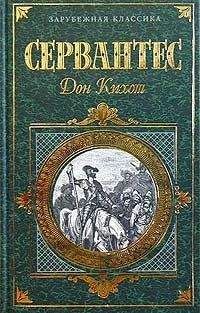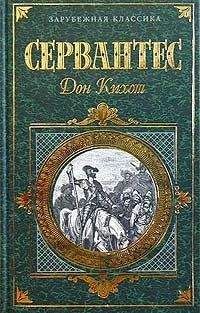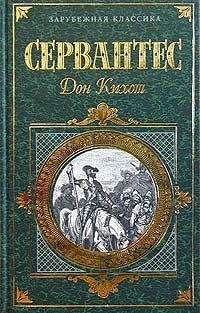Мигель де Сервантес Сааведра - Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 2
– Ну что ж, посмотрим, – молвила герцогиня, – я уверена, что в этом письме ты выказал свои блестящие умственные способности.
Санчо достал из-за пазухи и протянул герцогине незапечатанное письмо, которое заключало в себе следующее:
«Хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился; хоть и будет у меня славный остров, но за это не миновать мне славной порки. Сейчас ты всего этого не поймешь, милая Тереса, но потом я тебе объясню. Да будет тебе известно, Тереса, твердое мое решение: тебе надлежит ездить в карете, иначе тебе не подобает, потому ездить как-нибудь по-другому – это для тебя теперь все равно что ползать на карачках.
Ты жена губернатора, смотри же: у тебя все должно быть так, чтобы комар носа не подточил! При сем прилагаю зеленый охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора герцогиня, – прикинь, не выйдет ли из него юбки и кофты для нашей дочки. В здешних краях говорят, что мой господин Дон Кихот – помешанный разумник и забавный сумасброд и что я ему отличная пара. Побывали мы в пещере Монтесиноса, а мудрый Мерлин на предмет расколдования Дульсинеи Тобосской, которую, впрочем, все ее земляки зовут Альдонсой Лоренсо, выбрал меня: мне надлежит нанести себе три тысячи триста ударов за вычетом тех пяти, что я уже нанес, и тогда она будет совсем расколдованная, не хуже нас с тобой. Об этом ты никому не говори, а то вынесешь сор из дому – и пойдут кривотолки. Через несколько дней я отправляюсь губернаторствовать с величайшим желанием зашибить деньгу, – мне говорили, что все вновь назначенные правители отбывают с таким же точно желанием. Я там огляжусь и тогда отпишу, стоит тебе приезжать или нет. Серый здоровехонек и низко тебе кланяется, а я его ни за что не брошу, хотя бы меня сделали султаном турецким. Сеньора герцогиня тысячу раз целует твои ручки, а ты ей поцелуй две тысячи раз, ибо, как говорит мой господин, учтивые выражения – это самая дешевая и ни к чему не обязывающая вещь на свете. Богу было неугодно послать мне еще один чемоданчик с сотней эскудо, как в прошлую поездку, но ты, милая Тереса, не огорчайся, козла пустили в огород, и в должности губернатора мы свое возьмем. Одно только сильно меня беспокоит: говорят, если этого хоть раз попробуешь, то язык проглотишь, и вот коли так оно и будет, то губернаторство недешево мне обойдется. Впрочем, калекам и убогим подают столько милостыни, что они живут как каноники. Вот и выходит, что не так, так этак, а ты у меня, надо надеяться, разбогатеешь. Пошли тебе бог счастья, а меня да хранит он ради тебя.
Писано в этом замке 1614 года июля 20 дня.
Твой супруг, губернатор Санчо Панса».Герцогиня прочитала письмо и сказала Санчо:
– В двух местах вы, добрый губернатор, немножко сплоховали. Во-первых, вы уведомляете и поясняете, что губернаторство было вам пожаловано за то, что вы согласились себя выпороть, а между тем вы сами хорошо знаете и не стаете отрицать, что когда мой муж, герцог, обещал вам губернаторство, то никакая порка вам еще и во сне не снилась. Во-вторых, вы здесь выказали чрезмерное корыстолюбие, но ведь погонишься за прибытком, а вернешься с убытком, от зависти, говорят, глаза разбегаются, и алчный правитель творит неправый суд.
– Я совсем не то хотел сказать, сеньора, – заметил Санчо, – и если ваша милость полагает, что письмо написано не так, как должно, то мы его в момент разорвем и напишем новое, но только оно может выйти еще хуже, если я положусь на свою собственную смекалку.
– Нет, нет, – возразила герцогиня, – это хорошее письмо, я хочу показать его герцогу.
Затем они пошли в сад, куда в этот день должен был быть подан обед. Герцогиня показала письмо Санчо герцогу, и он пришел от него в совершенный восторг. Обед кончился, убрали со стола, и долго еще после этого герцог и герцогиня наслаждались занятными речами Санчо, как вдруг послышались унылые звуки флейты и глухой, прерывистый стук барабана. Все, казалось, были потрясены этою непонятною, воинственною и печальною музыкою, особливо же Дон Кихот, – от волнения он не мог усидеть на месте; про Санчо и говорить нечего: от страха он устремился к обычному своему убежищу, то есть под крылышко к герцогине, ибо доносившиеся звуки музыки были воистину и вправду тоскливы и унылы. Среди присутствовавших все еще царило смятение, как вдруг они увидели, что по саду идут два человека в траурном одеянии, столь длинном и долгополом, что оно волочилось по земле; оба незнакомца били в большие барабаны, также обтянутые черною тканью. Рядом с ними шагал флейтист, такой же черный и страшный, как и они. Следом за этою троицею шел человек исполинского телосложения, одетый, вернее сказать, закутанный, в черную-пречерную хламиду с невероятной длины шлейфом. Поверх хламиды его опоясывала и перекрещивала широкая, также черная, перевязь, а на ней висел громадной величины ятаган с черным эфесом и в черных ножнах. Лицо у него было закрыто прозрачною черною вуалью, сквозь которую видна была длиннейшая белоснежная борода. Выступал он в такт барабанам, величественно и чинно. Словом, громадный его рост, важная поступь, черные одежды, а также его свита могли бы привести, да и привели в смущение всех, не имевших понятия, кто он таков.
Итак, с вышеописанною медлительностью и особою торжественностью приблизился он к герцогу, который вместе со всеми прочими ожидал его стоя; приблизившись же, он опустился перед герцогом на колени, но тот наотрез отказался с ним разговаривать, пока он не поднимется. Чудище послушалось и, ставши на ноги, откинуло с лица вуаль, а под нею оказалась преужасная борода, такая длинная, белая и густая, какой доселе не видывал человеческий взор, после чего из объемистой и широкой груди бородача вырвались и полились звуки низкого и сильного голоса, и, уставившись на герцога, бородач произнес такие слова:
– Светлейший и всемогущий сеньор! Меня зовут Трифальдин Белая Борода, я служитель графини Трифальди, иначе дуэньи Гореваны, от которой я и прибыл к вашему величию с посольством, а именно: не соизволит ли ваше высокопревосходительство дозволить и разрешить ей явиться к вам и поведать свою печаль, одну из самых необыкновенных и удивительных, какие только самое мрачное воображение во всем подлунном мире может себе вообразить? Но прежде всего она желает знать, нет ли в вашем замке доблестного и непобедимого рыцаря Дон Кихота Ламанчского, ибо она ради него пришла в ваше государство из королевства Кандайи пешком и натощак, то есть совершила деяние, которое можно и должно почитать за чудо или же за волшебство. Она дожидается у ворот вашей крепости, то бишь летнего замка, и предстанет пред вами, как скоро вы дадите свое согласие. Я кончил.
Тут он кашлянул, обеими руками погладил бороду и с большим достоинством стал ждать ответа. А герцог ответил так:
– Уже давно, любезный Трифальдин Белая Борода, дошла до нас весть о несчастье, постигшем ее сиятельство графиню Трифальди, которую волшебники принуждают именовать себя дуэньей Гореваной, а посему, редкостный служитель, попроси ее войти и передай ей, что отважный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, чей нрав столь благороден, что от него смело можно ожидать всяческой помощи и защиты, находится здесь. И передай ей еще от моего имени, что если она нуждается и в моем покровительстве, то за этим дело не станет, ибо к тому меня обязывает звание рыцаря, рыцарям же надлежит и подобает покровительствовать всем женщинам, особливо вдовствующим дуэньям, утесняемым и страждущим, а ее сиятельство, должно думать, именно такова и есть.
При этих словах Трифальдин преклонил перед герцогом колена, а затем, подав барабанщикам и флейтисту знак, под ту же самую музыку, под которую он входил в сад, и тою же самою поступью направился к выходу, а присутствовавшие между тем снова подивились наружности его и осанке. Герцог же, обратясь к Дон Кихоту, сказал:
– Итак, славный рыцарь, сумрак невежества и коварства не в силах затмить и помрачить свет доблести и благородства. Говорю я это к тому, что ваше великодушие еще и недели не прожило в моем замке, а из чужедальних краев к вам уже притекают люди – и не в каретах, и не на верблюдах, а пешком и натощак; притекают скорбящие, притекают униженные, верящие, что в могущественнейшей вашей длани они найдут избавление от всех своих горестей и мытарств, и этим вы обязаны великим своим деяниям, молва о которых обежала и облетела все известные нам страны.
– Я бы ничего не имел против, сеньор герцог, – заговорил Дон Кихот, – если бы здесь была сейчас та почтенная духовная особа, которая недавно за столом выказала такое нерасположение и такую ненависть к странствующим рыцарям – пусть бы она теперь воочию удостоверилась, нужны или не нужны упомянутые рыцари людям. По крайней мере, она убедилась бы на деле, что люди, безмерно униженные и доведенные до отчаяния, в важных случаях жизни, когда их постигают бедствия ужасные, идут за помощью не в дома судейских, не в дома сельских псаломщиков, не к дворянину, который ни разу не выезжал из своего имения, и не к столичным тунеядцам, которые любят только выведывать новости, а затем выкладывать и рассказывать их другим, но отнюдь не стремятся сами совершать такие деяния и подвиги, о которых рассказывали бы и писали другие. Выручать в бедах, помогать в нужде, охранять девиц и утешать вдов лучше странствующих рыцарей никто не умеет, и я бесконечно благодарю бога за то, что я рыцарь, и благословляю любые несчастья и испытания, какие на почетном этом поприще мне могут быть посланы. Пусть явится эта дуэнья и попросит у меня, чего только ей угодно: порукой за избавление ее от напастей служат мощь моей длани и непреклонная решимость вечно бодрствующего моего духа.