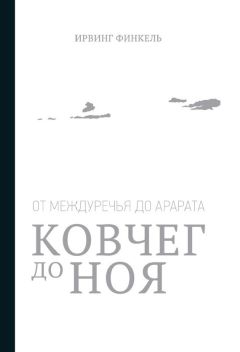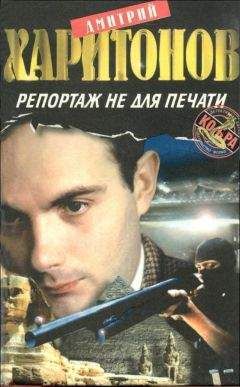Франсиско де Кеведо - Избранное
«Итак, разуверьтесь в своих заблуждениях, смертные, – сказал я про себя, – уразумейте, что это ад, где, для того чтобы терзать людей горестными речами, им говорят истины!»
Тут черт снова принялся развивать свою мысль.
– А бахвальство? Что может быть смехотворнее! Нет на свете иных добродетелей, как человеколюбие (которым побеждается лютость своя и чужая) и твердость мучеников. Всякое иное мужество – показное. Ведь то, что делают люди, что они сделали, воспитав великое множество доблестных военачальников, проявивших себя храбрецами на войне, они сделали не для того, чтобы прославиться, а из страха; ибо всякий, сражающийся на своей земле, защищая ее от врага, делает это из страха перед еще большим злом, поскольку он опасается плена или смерти, а идущий завоевывать тех, кто сидит у себя дома, порою совершает это из боязни, как бы тот не напал на него первым.
Те же, кто не имеет этого намерения, побуждаемы бывают алчностью. Ничего себе доблестные воины! Грабители чужого золота и нарушители спокойствия других народов, которым господь положил в качестве ограды от нашего честолюбия глубокие моря и высокие горы. Человек убивает другого, движимый чаще всего гневом, слепой страстью, а иной раз и страхом, как бы не быть убитым самому. И вы, люди, понимающие все шиворот-навыворот, называете глупцом всякого, кто не бунтует, не буянит и не сквернословит; умным – того, кто злобен, любит скандалить и нарушать порядок; смельчаком слывет у вас тот, кто не дает людям покоя, а трусом – кто благодаря хорошим манерам избегает положений, при которых к нему могли бы проявить неучтивость. А между тем это как раз те люди, в которых ни один порок не может найти благоприятной почвы.
– Черт подери! – воскликнул я. – Речи этого черта стоят больше, чем все капиталы, что у меня за душой!
Тут тот, на котором были чулки с завязками, сказал с глубокой печалью в голосе:
– Все это верно, если речь идет об этом дворянине; но, клянусь честью кабальеро, при чем тут я? – Слово «кабальеро» он растянул по крайней мере на три четверти часа. – Расценивать так меня, во-первых, неверно и, во-вторых, неучтиво. Как будто все люди одним миром мазаны!
Слова эти вызвали у чертей раскатистый хохот. Один из них немедленно подошел к нему и попросил его успокоиться и сказать, в чем он нуждается и что его более всего огорчает, ибо с ним хотели бы обойтись так, как он этого заслуживает. Тот, не долго думая, ответил:
– Премного вам обязан. Не могли бы вы дать мне доску, чтобы отгладить мой воротник?
Черти прыснули со смеху, а дворянин опять расстроился.
Желая повидать в аду возможно больше разных разностей, я решил, что уже и так задержался здесь слишком долго, и пошел дальше. Не успел я отойти и нескольких шагов, как набрел на лужу, широкую что, твое море и отменно грязную. Тут стоял такой гам, что у меня голова кругом пошла. Я спросил, куда я попал, и получил в ответ, что здесь отбывают наказание женщины, которые при жизни избрали себе должность дуэньи.
Таким образом, я узнал, что особы эти на том свете превращаются в лягушек, ибо при жизни они, подобно лягушкам, способны были квакать без толку и без умолку, как это делают лягушки, сидя в своей вонючей тине, а поэтому в адские лягушки они угодили вполне справедливо, ибо дуэньи – ни рыба ни мясо, как и они. Одного очень позабавила мысль, что дуэньи теперь превратились в гадов, волей-неволей должны держать ноги раскорякой и что единственное достойное внимания расположено у них сейчас ниже пояса, поскольку лица их остались худыми, а шеи в морщинах.
Я пошел дальше, оставив лужу по левую руку, и набрел на луг, где в адском пламени вцеплялись друг другу в бороды и оглашали воздух криками множество мужчин. Охраняли их шестеро стражей. Я обратился к одному из них с просьбой разъяснить мне, что это за старики и почему их здесь собрано такое количество.
– А, это место отведено отцам, которые осуждают себя на вечные муки, чтобы оставить богатое наследство детям. Иначе его называют загоном дураков.
– О, я несчастный! – воскликнул в это мгновение один из этих нежных родителей. – Всю-то жизнь я покоя не знал – не пил, не ел, все старался сколотить достойное наследство старшему сыну. Я даже для того, чтобы не тратить лишних денег, так и умер, не прибегнув к лекарю. И вот, не успел я испустить дух, как сынок мой уже утирал себе слезы моими денежками. И, вполне уверенный, что такой скаред, как я, мог только угодить в ад, он решил, что нет ни малейшего смысла служить мессы за упокой моей души, и в этом пошел наперекор моей последней воле. А тут господь бог в усугубление моего наказания дал мне возможность видеть, как мой недостойный сын расточает накопленное мною, и слышать, как он говорит: «Раз отец осудил себя на вечные муки, уж лучше бы он побольше взял себе на душу, а то стоит ли мучиться из-за таких пустяков?»
– Вы, может быть, хотите убедиться, – вмешался один из чертей, – в справедливости поговорки, которая у вас так в ходу: «Счастлив сын, у которого отец в аду жарится»?
Н «успели слова эти донестись до слуха стариков, как они принялись выть и бить себя по лицу. Страшно было, на них смотреть.
Не будучи в состоянии вынести это зрелище, я прошел дальше.
Дойдя до очень мрачной тюрьмы, я услышал великий лязг цепей и наручников, шипенье огня, удары и вопли. Я осведомился, кого здесь терзают, на что мне сказали, что тут помещаются все „кабызнали“.
– Что-то не понимаю, – сказал я, – о каких таких „кабызналах“ идет речь.
– А вот о каких, – ответили мне. – Все, кого вы здесь видите, – дураки. Жизнь они в свое время вели дурную, но сами этого не сознавали и по дурости своей осудили себя на вечные муки. А теперь только и слышишь от них: „Эх, кабы знал, ходил бы в церковь“, „Эх, кабы знал, смолчал бы“, „Эх, кабы знал, помог бы бедняку“, „Эх, кабы знал, непременно бы исповедовался“.
Я в ужасе устремился прочь от столь дурного и столь ослепленного общества, но угодил из огня да в полымя. Остановившись перед каким-то загоном, я спросил у находившегося при нем черта, кого он здесь казнит.
– Тут разный народ, – ответил он мне. – Тут и те, кто говаривал: „Бог милостив“, и „Кого когда-либо осуждало милосердие божье?“, и „Господь не оставит“.
Я очень удивился и сказал ему:
– Как это милосердие может кого-либо осуждать, когда это дело правосудия? Ты что-то брешешь, черт.
– А ты, – произнес нечистик, – треплешь языком, как несмышленыши, ибо не знаешь, что половина по крайней мере попавшего сюда народа сидит именно из-за милосердия божьего. Ты только прикинь, как много таких, кто, упрекни их в каком-либо дурном поступке, не обратят на слова твои никакого внимания и будут только повторять: „Бог милостив и на пустяки не обращает внимания, ибо велико всепрощение его“. И в то время как они, совершая преступления, ожидают помилования всевышнего, мы их ожидаем здесь.
– Так что же, по-твоему, выходит, что на бога и на милость его нельзя рассчитывать?
– Отнюдь, – ответили мне, – это значит лишь то, что он помогает добрым желаниям и награждает добрые дела и не терпит косненья в дурном. Люди сами вводят себя в обман, если думают, что милость божья способна покрыть их дурные поступки и действовать так, как им выгодно, а не так, как сообразно ее свойствам, ибо она чиста и безмерна для праведных и достойных ее, и кто более всего уповает на нее, менее всего нуждается в ее помощи. Не заслуживает милосердья божьего тот, кто, зная, сколь оно безгранично, заключает из этого, что бог может дать поблажку дурным его побуждениям, и не усматривает в нем целительного источника для души. Милость свою господь зачастую проявляет и ко многим недостойным ее, ибо люди собственными силами ничего не способны совершить, если не помогут им заслуги их и покровительство всевышнего. И самое большее, что может сделать человек, это стараться заслужить его.
„О люди, – подумал я, – как часто забываете бы о самом главном и откладываете до последнего дня то, что намеревались сделать еще в самый первый! Если бы вы только знали, что приговор, которого вы так боитесь, уже произнесен над вами! Как поучительно было бы для многих взором и слухом впитать в себя все то, что творится в аду!“
С этими словами я проследовал дальше и дошел до конюшни, где помещались красильщики. Они так мало отличались от чертей, а черти от них, что даже следователю было бы трудно установить, кто из них кто. Я спросил у одного мулата, лоб которого был так роскошно украшен рогами, что больше всего напоминал вешалку, где помещаются содомиты, старухи и рогоносцы. Он сказал:
– Рогоносцы рассеяны по всему аду, ибо эта публика при жизни является чертями, так сказать, первой степени посвящения, ибо уже в этой жизни им положено терпеть и носить свой роговой венец. Что касается содомитов и старух, мы не только ничего о них не знаем, но еще от всей души желали бы, чтобы и они о нас ничего не знали, ибо в случае первых это значило бы подвергать опасности наш тыл. По этой причине мы, черти, и носим хвосты, ибо там, где пахнет мужеложеством, необходимы хвосты-опахала. Старух мы не желаем иметь поблизости, ибо они и здесь нас донимают и изводят. Им недостаточно того, что они испытали при жизни, они являются сюда и преследуют нас своей любовью. Многие прибыли к нам седые и покрытые морщинами, без единого зуба во рту, на ни одной из них еще не наскучила жизнь. Самое забавное, что, кого бы вы ни спросили, в аду не окажется ни одной старухи. Та, у которой гноятся глаза и нет ни волос, ни зубов, но морщин зато хоть отбавляй, ибо зажилась она на свете, заверит нас, что волосы выпали у нее после болезни, что зубы испортились от сластей, что горб вырос от ушиба, и не признается в своей старости, даже если бы считала, что исповедью своей она вернет себе молодость.