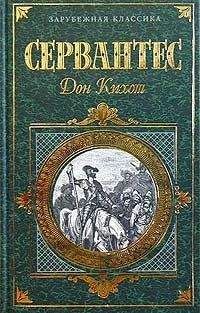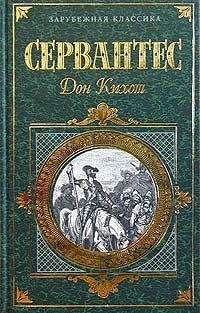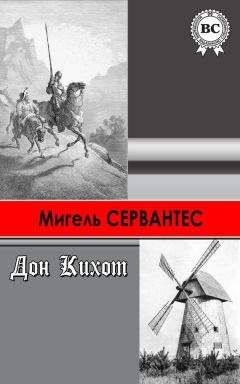Мигель Сервантес Сааведра - Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 1
Но он тут же сообразил, как с этим быть, а именно: оторвал от болтавшегося края сорочки огромный лоскут и сделал на нем одиннадцать узелков, из коих один – побольше, и вот этот самый лоскут и заменял ему четки в течение всего времени, которое он здесь провел и которого ему с избытком хватило на то, чтобы миллион раз прочитать «Ave Maria». Однако же он был весьма огорчен тем обстоятельством, что здесь не оказалось отшельника, который исповедовал бы его и утешал, а потому он проводил время так: гулял по лугу и без конца вырезал на древесной коре и чертил на мелком песке стихи, в коих преимущественно изливал свою тоску, а также воспевал Дульсинею. Но когда наконец Дон Кихота сыскали, то из всех его стихов, как показали дальнейшие поиски, оказались целыми и удобочитаемыми только лишь следующие:
О кусты, деревья, травы,
Одеянье гор нагих,
Ледяных вершин оправа!
Пусть напеву с уст моих
Вторит хор ваш величавый,
Чтобы горестная весть —
В мире нет ее грустнее! —
Разнеслась повсюду днесь:
Дон Кихот рыдает здесь
От тоски по Дульсинее
Из Тобосо.
Этому добавлению к имени Дульсинея – из Тобосо– немало смеялись те, кто вышеприведенные стихи обнаружил; они высказали такое предположение: Дон Кихот, мол, вероятно, решил, что если к имени Дульсинея он не присовокупит – из Тобосо,то смысл строфы останется неясным; и они были правы, ибо он сам впоследствии в этом признался. Много еще написал он стихов, но, как уже было сказано, полностью сохранились и могли быть разобраны только эти три строфы. Так, в стихотворстве, во вздохах, в воплях к фавнам и сильванам окрестных дубрав, к нимфам рек, к унылому и слезами увлажненному Эхо – в воплях о том, чтобы они выслушали его, утешили и отозвались, и проходило у него время, а также в поисках трав, коими он намерен был пробавляться до возвращения Санчо; должно заметить, что если б тот пробыл в отсутствии не три дня, а три недели, то Рыцарь Печального Образа так изменил бы свой образ, что его бы не узнала родная мать.
Но пусть он себе сочиняет стихи и вздыхает, мы же расскажем, что случилось с Санчо Пансою за время его посольства, а случилось с ним вот что: выбравшись на большую дорогу, двинулся он в сторону Тобосо и на другой день подъехал к тому самому постоялому двору, где происходило злополучное подбрасывание на одеяле; и не успел Санчо хорошенько его разглядеть, как вдруг почудилось ему, будто он снова летает по воздуху, и ему не захотелось там останавливаться, нужды нет, что подъехал он в такое время, когда это можно и должно было сделать, ибо время было обеденное, самая пора удовлетворить свою потребность в горячем, а ведь он уже давным-давно питался всухомятку.
Необходимость заставила его приблизиться к постоялому двору, хотя он все еще колебался, останавливаться ему или не останавливаться. Но в это время оттуда вышли два человека и тотчас узнали его. И один из них сказал другому:
– Послушайте, сеньор лиценциат! Вот этот всадник – не Санчо ли это Панса, тот самый, который, по рассказам ключницы нашего искателя приключений, отправился вместе со своим господином в качестве его оруженосца?
– Так, это он, – отвечал лиценциат, – и едет он на коне нашего Дон Кихота.
Они потому сразу узнали его, что то были его односельчане – священник и цирюльник, те самые, которые подвергали осмотру книги Дон Кихота и выносили им окончательный приговор. Узнав же Санчо Пансу и Росинанта, снедаемые желанием расспросить про Дон Кихота, они приблизились к нему, и тут священник, назвав его по имени, молвил:
– Друг Санчо Панса! Где твой господин?
Санчо Панса тотчас узнал их и порешил утаить то место и то состояние, в котором его господин находился, а потому ответил, что господин его где-то занят чрезвычайно важным делом, а каким именно – этого он, Санчо, лопни его глаза, открыть не может.
– Нет, нет, Санчо Панса, – возразил цирюльник, – если ты нам не скажешь, где он, мы подумаем, – да уже и начинаем думать, – что ты убил его и ограбил, раз что едешь на его коне. В самом деле, верни нам хозяина этой лошади, а то я тебе задам.
– Вы мне не грозите, я не такой человек, чтоб кого-нибудь грабить и убивать, пусть их убивает судьба или же создатель. Мой господин в свое удовольствие кается сейчас в горах.
И тут Санчо единым духом все и выпалил и рассказал о том, в каком состоянии оставил он Дон Кихота, какие были у его господина приключения и как он, Санчо Панса, отправился с письмом к сеньоре Дульсинее Тобосской, то есть к дочери Лоренсо Корчуэло, в которую его господин влюбился по уши. Подивились священник и цирюльник тому, что услышали из уст Санчо Пансы, и хотя для них не являлось тайной, что Дон Кихот свихнулся и каким именно видом умственного расстройства он страдал, однако это не мешало им всякий раз снова даваться диву. Они попросили Санчо Пансу показать им послание, которое он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Тот сказал, что послание написано на одном из листков в памятной книжке и что Дон Кихот велел отдать его переписать в первом же селении; священник, однако ж, попросил показать письмо – он, дескать, отличным почерком его перепишет. Санчо Панса сунул руку за пазуху и поискал книжку, но так и не нашел, да если б он искал ее даже до сего дня, то все равно не нашел бы, потому что она осталась у Дон Кихота и тот забыл ему передать, а Санчо невдомек было напомнить.
Когда Санчо обнаружил, что книжки нет, он стал бледен как смерть и, вновь принявшись весьма поспешно себя ощупывать, вновь пришел к заключению, что книжки нет, и, мигом запустив обе руки себе в бороду, половину вырвал, а затем в мгновение ока раз шесть подряд хватил себя кулаком по лицу, так что из носу у него потекла кровь. Увидевши это, священник и цирюльник спросили, что с ним случилось и за что он так на себя напустился.
– Что со мной случилось? – воскликнул Санчо. – А то, что в одно, как это говорится, мановение,я ахнуть не успел, – у меня уже не стало трех ослят, из коих каждый стоит целого замка.
– Как так? – спросил цирюльник.
– Я потерял записную книжку, – пояснил Санчо, – с письмом к Дульсинее Тобосской и с приказом за подписью моего господина, в котором он велит племяннице выдать мне трех из тех четырех или пяти ослят, что остались у него в имении.
И тут он сообщил им о пропаже серого. Священник принялся утешать его и сказал, что, когда он разыщет своего господина, тот напишет другой приказ, но уже на большом листе бумаги, согласно существующим правилам и законам, ибо вексель, написанный на листке из записной книжки, никто не примет и не оплатит.
Санчо этим утешился и сказал, что коли так, то пропажа письма к Дульсинее не очень его огорчает, тем более что он знает письмо почти наизусть, и с его слов они могут записать его, когда и где им заблагорассудится.
– Говори же, Санчо, – сказал цирюльник, – а мы будем записывать.
Силясь припомнить содержание письма, Санчо Панса почесывал затылок, переминался с ноги на ногу, то поднимал, то опускал глаза, изгрыз полногтя на пальце и, изрядное количество времени продержав в неведении священника и цирюльника, ожидавших, что он скажет, наконец объявил:
– Ей-богу, сеньор лиценциат, видно, черти утащили все, что оставалось у меня в памяти от этого письма. Впрочем, начиналось оно так: «Всемогущая и безотказная сеньора».
– Да не безотказная, – поправил цирюльник, – а вернее всего: «бесстрастная» или же «всевластная сеньора».
– Вот-вот, – сказал Санчо. – А дальше, если только память мне не изменяет, было так... если только мне не изменяет память: «Язвительный, и бессонный, и раненый целует вашей милости руки, неблагодарная и никому не известная красавица», и что-то еще насчет здоровья и болезни, коих он ей желает, – одним словом, много всего было подпущено, а кончалось так: «Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа».
Немало потешила обоих путников отличная память Санчо Пансы, и они выразили ему свое восхищение и попросили еще два раза прочитать письмо, дабы они, в свою очередь, могли запомнить его и при случае записать. Санчо еще три раза прочитал письмо и наговорил невесть сколько всякой чепухи. Засим он рассказал о делах своего господина, умолчав, однако ж, о том, как его самого подбрасывали на этом постоялом дворе, куда он теперь не решался попроситься на постой. Еще он сказал, что его господин в предвидении благоприятного ответа от сеньоры Дульсинеи Тобосской уже нацелился на императорский или, по крайности, на королевский престол, что так-де между ними условлено и что это – дело нехитрое, ежели принять в рассуждение храбрость Дон Кихота и мощь его длани; и что как скоро это сбудется, то Дон Кихот его, Санчо, женит, ибо он к тому времени овдовеет, это уж как пить дать, и сосватает ему наперсницу императрицы, наследницу огромного и богатого имения, но только на материке, без всяких этих островов и чертостровов, ибо они ему уже разонравились. Все это Санчо проговорил весьма хладнокровно, время от времени прочищая нос и с таким глупым видом, что его односельчане снова дались диву при мысли о том, сколь пылким должно быть безумие Дон Кихота, если увлекло оно за собою рассудок бедняги Санчо. Однако ж они не дали себе труда рассеять его заблуждение: на душе, мол, у него будет спокойнее, если он останется при своем мнении, а им и вовсе одно удовольствие слушать, как он городит чушь. А потому они сказали, чтобы он молился богу о здравии своего господина, ибо со временем стать, как он говорит, императором, или, по малой мере, архиепископом, или же быть возведенным в какой-либо другой высокий сан – это вещь возможная и очень даже легко исполнимая. Санчо же им на это сказал: