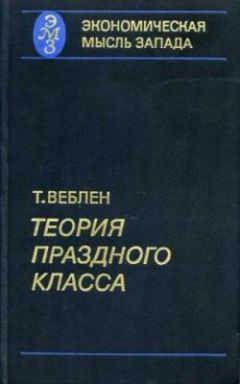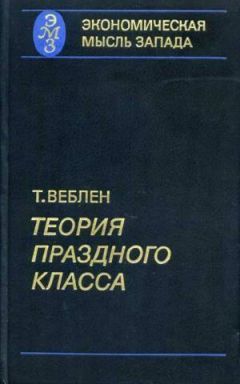Жюль Мишле - Ведьма
При такой прекрасной поддержке Жирару было бы нетрудно доказать свою невиновность. Он, однако, мало об этом старался. Его самозащита поражает своим легкомыслием. Он даже не находил нужным согласоваться со своими предыдущими показаниями. Он противоречит своим собственным свидетельствам. Он точно шутит, заявляя тоном смелого грансеньора эпохи Регентства, что если и запирался с Екатериной в комнате, как его обвиняют, то «случалось это не более девяти раз».
«А почему он это делал?» — спрашивают его друзья и отвечают: «Разумеется, чтобы наблюдать, получить возможность судить поглубже о том, как к этому отнестись. Такова в подобных случаях обязанность духовника. Прочтите житие великой святой Екатерины Генуэзской. По вечерам ее исповедник прятался в ее комнате, чтобы присутствовать при творимых ею чудесах, захватить ее в самый момент сотворения чуда». «Несчастие в данном случае заключалось в том, что никогда не дремлющий дьявол расставил ловушку этому божьему агнцу, изрыгнул и выплюнул этого женского дракона, это прожорливое чудовище, эту одержимую дьяволом маньячку, чтобы поглотить его, ввергнуть в поток клеветы и погубить».
Существует превосходный древний обычай душить чудовище, когда оно еще в колыбели. Но почему же не прибегнуть к этому средству и позднее! Добросердечные жирардинки советовали как можно скорее применить огонь и железо. «Пусть погибнет!» — заявляли святоши. Многие светские дамы также стояли за ее наказание, находя возмутительным, что эта особа подала жалобу, вовлекла в тяжбу человека, оказавшего ей слишком большую честь.
В парламенте было несколько заядлых янсенистов, более враждебных иезуитам, чем расположенных к девушке. Они должны были почувствовать себя обескураженными, когда увидели, что против них все: страшный орден, Версаль, двор, министр-кардинал, наконец салоны Экса. Окажутся ли они более мужественными, чем министр юстиции, канцлер Агессо, обнаруживший такую неустойчивость? Что же касается генерального прокурора, то он не колебался. Обязанный выступить обвинителем Жирара, он объявил себя его другом и научил его, как ответить на обвинение.
Оставалось только выяснить, какое удовлетворение, какое торжественное искупление, какое наказание, возложенное на истицу, ставшую теперь обвиняемой, удовлетворит Жирара и иезуитский орден. Какова бы ни была кротость иезуитов, они держались того мнения, что в интересах религии было бы сделать маленькое предупреждение, с одной стороны, фанатикам-янсенистам, с другой — философам-писателишкам, число которых все увеличивалось. Два пункта давали возможность поддеть Екатерину.
Она клеветала.
Однако не было такого закона, который наказывал за клевету смертью. Чтобы добиться этого, надо было унестись в прошлое и вспомнить: «Древний римский текст «De famosis libellis» присуждает к смерти всех авторов книжонок, оскорбительных для императоров и для религии империи. Иезуиты — воплощение религии. Следовательно, направленная против иезуита записка заслуживает высшего наказания».
Можно было подойти еще и с другой, более удобной стороны. В начале процесса духовный судья, благоразумный Лармедье, спросил ее, не угадывала ли она когда-нибудь чужих тайн: она ответила утвердительно. Следовательно, к ней можно применить обвинение, указанное в формулярах процессов ведьм, обвинение, гласящее: ворожея и обманщица. Уже одно это обвинение влекло за собой по всем каноническим законам сожжение на костре. Ее можно объявить даже прямо ведьмой на основании признания оллиульских монахинь, что она ночью в один и тот же час была одновременно в разных кельях, что они испытывали ее приятную тяжесть и т. д. Их пристрастие к ней, их внезапная нежность — все это было так поразительно, что наводило на мысль о колдовстве. Что помешает ее сжечь? В XVIII в. всюду еще сжигают ведьм. В Испании, в одно царствование Филиппа V, было сожжено 1600 человек, одна ведьма была даже сожжена в 1782 г. В Германии в 1751 г. сжигается одна, одна в Швейцарии в 1781 г. В Риме сожжения не прекращаются, сжигают, правда, в ямах и клетках инквизиции.
«Франция, несомненно, более гуманна. Она во всяком случае непоследовательна. В 1718 г. сжигают колдуна в Бордо, в 1724 и 1726 гг. в Греве к костру присуждают за преступления, которые в Версале сошли бы за забавы школьников. Воспитатели королевского ребенка, Ледюк и Флери, снисходительные ко двору, свирепы к городу.
Погонщик ослов и дворянин, некто Шоффур, сожжены живьем. Назначение кардинал-министра не может быть лучше отпраздновано, как реформой нравов, как сурковым наказанием публичных совратителей. Какой удобный случай констатировать торжественный и страшный пример в образе этой адской девушки, покусившейся на невинность Жирара.
Вот что только могло смыть пятно с отца-иезуита. Необходимо было установить, что он (даже если бы он совершил проступок, подобный проступку Шоффура) был игрушкой злых чар. Акты были более чем ясны. На основании канонического права и последних решений кого-нибудь надо было сжечь. Из пяти судей только двое стояли бы за сожжение Жирара. Трое были против Кадьер. Стали торговаться. Трое судей, составлявших большинство, не настаивали на сожжении, избавляли ее от продолжительной и страшной казни на костре, довольствовались простой смертью.
От имени всех пяти судей была вынесена и предложена парламенту резолюция: «Екатерина Кадьер должна быть подвергнута пытке, простой и чрезвычайной, потом возвращена в Тулон и повешена на площади Доминиканцев».
* * *Этот страшный удар вызвал перемену в общественном мнении. Светские люди, остряки перестали смеяться. Они ужаснулись. Их легкомыслие не простиралось так далеко, чтобы пройти мимо такого страшного дела. Они находили в порядке вещей, если девушка была соблазнена, обесчещена, если она была игрушкой в чужих руках, если она умерла от скорби и безумия. Пусть. В такие дела они не вмешиваются. Однако при мысли о казни, о бедной жертве, которая будет задушена на плахе веревкой, сердца их возмутились.
Со всех сторон поднялся крик: «Со дня сотворения мира не было совершено такой преступной перетасовки: закон об обмане девиц применен навыворот, девушка осуждена за то, что была совращена, совратитель получает право задушить свою жертву!»
И вдруг обнаруживается явление, неожиданное для Экса (население которого состояло из судей, попов и бомонда). Налицо оказывается народ. Вспыхивает бурное народное движение. Огромная масса людей всех классов, объятая единым порывом, отправляется сомкнутыми рядами к монастырю урсулинок. Вызывают Екатерину и ее мать. Раздаются крики.
«Успокойтесь, мадемуазель. — Мы тут. — Не боитесь ничего».
Великий XVIII в., названный Гегелем царством разума, был еще в значительной степени царством человечности.
Высокопоставленные дамы, вроде внучки госпожи де Севинье, очаровательной госпожи Симиан, завладевают девушкой и прижимают ее к своей груди. Жены янсенистов — явление еще более прекрасное и трогательное! — отличавшиеся такой чистотой, столь щепетильные в своем кругу, суровые до крайности, приносят закон в жертву милости, обвивают руками шею гонимой девушки, очищают ее своими поцелуями, вновь крестят ее своими слезами.
Если Прованс отличается страстностью, то он в особенности достоин удивления в подобные моменты страстного великодушия и истинного величия. Нечто подобное можно было видеть в дни первых триумфов Мирабо, когда он собрал вокруг себя в Марселе миллион людей. И уже здесь перед нами великая революционная сцена, грандиозное восстание против тогдашнего глупого правительства и против покровительствуемых Флери иезуитов, единодушное восстание во имя человечности и жалости, во имя защиты женщины, варварски погубленного ребенка. Иезуиты вообразили, что смогут среди черни, среди своих клиентов и нищих, сорганизовать тоже своего рода народ. Они вооружили его колокольчиками и палками, чтобы оттеснить Кадьеров. Так назывались обе партии. Последняя партия охватывала всех. Марсель поднялся, как один человек, и устроил овацию сыну адвоката Шодон. В своей симпатии к своей землячке Тулон пошел так далеко, что народ хотел сжечь иезуитский дом.
Самое трогательное свидетельство сочувствия Екатерине вышло, однако, из монастыря Оллиуль. Простая пансионерка, мадемуазель Агнесса, юная и робкая, последовала порыву сердца, бросилась в водоворот памфлетов, написала и напечатала апологию Кадьер. Это широкое и глубокое движение отразилось и на парламенте. Враги иезуитов подняли голову, окрепли до того, что перестали бояться угроз свыше, кредита иезуитов и версальских громов, которые мог обрушить на них Флери.
Даже друзья Жирара, видя, как их число уменьшается, как редеют их ряды, желали скорейшего суда.
Он имел место 11 октября 1731 г.
Лицом к лицу с народом никто не осмелился поддержать жестокую резолюцию суда о повешении Екатерины. Двенадцать советников пожертвовали своей честью и оправдали Жирара. Из остальных двенадцати несколько янсенистов присудили его к костру как колдуна, трое или четверо других, более разумных, осудили его к смерти как преступника. Так как голоса разделились, то председатель Лебре пригласил добавочного судью. Тот голосовал за Жирара. Оправданный от обвинения в колдовстве и других преступлениях, повлекших бы за собой смертную казнь, он был передан как исповедник и священник для духовного над ним суда тулонскому фискалу, его близкому другу Лармедье.