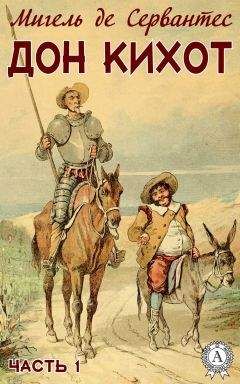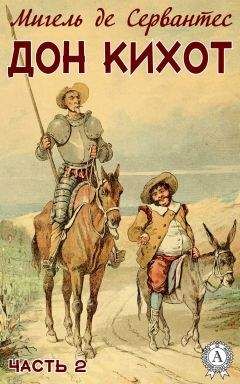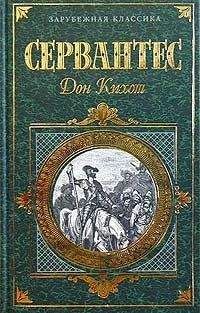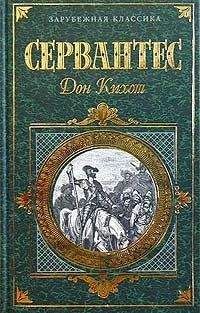Мигель Сервантес - Дон Кихот
– Разве я тебе уже не говорил, – ответил Дон Кихот, – что я хочу подражать Амадису, изображая здесь отчаявшегося, обезумевшего и разъяренного, и подражая в то же время и мужественному Дон-Роланду, когда он на деревьях, окружавших один ручей, нашел признаки того, что Анжелика прекрасная пала в объятиях Медора. Это причинило ему такое сильное горе, что он совсем обезумел и начал вырывать с корнем деревья, мутить воду в светлых ручейках, убивать пастухов, опустошать стада, поджигать хижины, разрушать дома, таскать свою кобылу и проделывать тысячи других безумств, достойных вечной славы. По правде сказать, я не думаю точь-в-точь подражать Роланду, или Орланду, или Ротоланду (у него было сразу три имени) во всех безумствах, которые он сделал, сказал или подумал, – но все-таки попытаюсь воспроизвести, как могу, те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. Может быть даже я удовлетворюсь простым подражанием Амадису, который, не совершая таких дорогих безумств, только своею печалью и слезами приобрел больше славы, чем кто-либо другой.
– Я думаю, – сказал Санчо, – что рыцари, поступавшие таким образом, были к этому чем-нибудь вызваны и имели свои причины проделывать все эти глупости и покаяния; ну, а вам-то, господин мой, какой смысл сходить с ума? Какая дама нас отвергла и что за признаки отыскали вы, которые могли бы заставить вас думать, что госпожа Дульцинея Тобозская позволила себе баловаться с каким-нибудь мавром или христианином?
– В том-то и сущность и преимущество моего предприятия, – ответил Дон-Кихот. – Когда странствующий рыцарь сходит с ума, имея причины для этого, – тут еще нет ничего удивительного; похвально потерять рассудок без всякого повода и заставить сказать свою даму: если он делает такие вещи хладнокровно, то что он наделает сгоряча? Кроме того, разве не может для меня служить достаточным предлогом долгая разлука с моей обожаемой дамой Дульцинеей Тобозской, потому что ты сам знаешь, как сказал этот пастух Амброзио, что отсутствующий испытывает все муки, которых он страшится. Поэтому, друг Санчо, не теряй напрасно времени, пытаясь отклонить меня от такого редкого, счастливого и неслыханного подражания. Безумен я теперь, и безумен я должен быть до тех пор, пока ты не вернешься с ответом на письмо, которое я предполагаю тебе поручить отнести моей даме Дульцинее. Если это будет такой ответ, какого заслуживает моя преданность, то немедленно же прекратятся мое безумие и покаяние; если же случится иначе, то я в самом деле сойду с ума, и утрачу все чувства. Следовательно, каков бы ни был ее ответ, я освобожусь от неизвестности и мучений, в которых ты меня оставишь, буду ли я в полном разуме наслаждаться доброю вестью, которую ты мне принесешь, или от безумия потеряю окончательно ощущение моих страданий. Но скажи мне, Санчо, тщательно ли ты сохранил шлем Мамбрина? Я видел, что ты поднял его с земли после того, как этот неблагодарный хотел разбить его в куски, но не мог этого сделать, что ясно доказывает, как крепок его закал!
Санчо ответил ему на это:
– Ей Богу, господин рыцарь Печального образа, я не могу терпеливо выносить некоторых вещей, которые говорит ваша милость. Они могут заставить меня предположить, что все ваши рассказы о рыцарских приключениях, о завоевании королевств и империй, о раздавании островов и о других милостях и щедротах по примеру странствующих рыцарей, все это – вздор и ложь и пустые бредни; потому что, если бы кто-нибудь услыхал, как ваша милость называете цирюльничий таз шлемом Мамбрина и вот уже четыре дня упорствуете в этом заблуждении, то, как вы полагаете, не подумал ли бы тот человек, что у того, кто говорит и утверждает нечто подобное, мозги не совсем в порядке? Цирюльничий таз у меня в сумке, совсем изогнутый, и я повезу его исправить домой и буду брить с ним бороду, если только Господь не лишит меня своей милости и снова приведет когда-нибудь увидеться с моей женой и детьми.
– Знаешь ли ты, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – клянусь тебе Богом, которого ты только что призывал, что ни у одного оруженосца в свете не было такого ограниченного разума, как у тебя. Возможно ли, чтобы за все время, которое ты находиться в моем обществе, ты не мог заметить, что все дела странствующих рыцарей похожи на бредни, нелепости и безумства и что все они устраиваются навыворот? Но это не потому, что это так и есть в действительности, а потому, что среди нас беспрестанно действует толпа волшебников, которые изменяют, превращают все по своей воле, смотря по тому, хотят ли они нам покровительствовать или – погубить нас. Вот почему тот предмет, который тебе кажется цирюльничьим тазом, мне кажется шлемом Мамбрина, а другому покажется еще чем-нибудь. И, по истине, это редкая заботливость покровительствующего мне волшебника – устроить так, чтобы весь мир принимал за цирюльничий таз то, что в действительности есть шлем Мамбрина, потому что, если бы знали о драгоценности этого предмета, все стали бы преследовать меня, чтобы отнять его; но теперь видят, что это ничто иное, как цирюльничий таз, а потому и не стараются добыть его, как это доказал тот, который пробовал его разбить и оставил на земле, потому что, знай он, что это такое, он не оставил бы его, – будь в том уверен. Береги же его теперь у себя, друг, пока мне нет надобности в нем; потому что мне следует снять с себя и все это вооружение и остаться голым, каким я вышел из чрева матери, если только я желаю подражать в своем покаянии больше Роланду, чем Амадису.
Беседуя таким образом, они прибыли к подошве высокой горы, одиноко возвышавшейся в виде остроконечной скалы среди других окружавших ее гор. У подошвы этой горы протекал светлый ручей, а вокруг простирался мягкий зеленый луг, радуя останавливавшийся на нем взор. Множество раскиданных там и сям деревьев и обилие полевых цветов еще более украшали этот очаровательный уголок. Его-то и выбрал рыцарь Печального образа местом своего покаяния; только что, увидав его, он громко закричал, как будто уже потеряв рассудок:
– Вот место, о небо, избранное мною для оплакивания несчастия, в которое ты меня повергло. Вот место, где слезы моих глаз сольются с водами этого маленького ручейка, где мои беспрерывные и глубокие вздохи не перестанут волновать листьев этих деревьев в знак и свидетельство скорби, раздирающей мое опечаленное сердце. О вы, кто бы вы ни были, боги природы, избравшие своим пребыванием эти необитаемые места, услышьте жалобы этого несчастного любовника, долгой разлукой и воображаемыми муками ревности приведенного в эту пустыню рыдать и оплакивать суровость неблагодарной красавицы, образца и последнего предела человеческой красоты. О вы, нимфы лесов и долин, обыкновенно обитающие в глубине этих гор, пусть легкомысленные и сладострастные сатиры, тщетно обожающие вас, никогда не нарушат вашего мирного покоя, если вы поможете мне оплакивать мои несчастия или, по крайней мере, не утомитесь моими жалобами. О Дульцинея Тобозская, день моих ночей, слава моих испытаний, полярная звезда моих странствований, светоч моей судьбы! да ниспошлет небо исполнение всем мольбам, которые тебе будет угодно обратить к нему, если ты соблаговолишь обратить внимание на то, в какое место и какое состояние привела меня разлука с тобою, и ответить, наконец, каким-нибудь милостивым знаком на мою неизменную преданность. О вы, уединенные деревья, отныне долженствующие быть моими единственными товарищами, легким шелестом ваших листьев поведайте мне, что мое присутствие не причиняет вам неприятности. И ты, мой оруженосец, веселый и верный товарищ в моей счастливой и злой судьбе, заботливо сохрани в своей памяти все, что и сделаю здесь при тебе, дабы с точностью рассказать об этом той, которая служит единственною причиною моих страданий.
С этими словами он слез на землю и поспешил снять с Россинанта узду и седло; затем, слегка ударив его по крупу, он сказал:
– Получай свободу от того, кто сам потерял ее, о скакун настолько же превосходный по своему бегу, насколько несчастный по своей участи; иди, избирай себе, какой хочешь, путь, ибо на лбу у тебя написано, что никто не равнялся с тобою в легкости, ни гиппогриф Астольфа, ни славный Фронтин,[33] так дорого стоивший Брадаманту.
Видя это, Санчо сказал:
– Право, хорошо, что кто-то избавил нас от труда развьючивать моего ослика! а то, пришлось бы, я полагаю, и ему расточать много ласк и похвал. Но если бы он был здесь, разве я позволял бы кому-нибудь развьючивать его? да и к чему? Мало было бы дела ему до влюбленных и отчаявшихся, так как хозяин его не был ни тем, ни другим, потому что его хозяином был я, пока так было угодно Богу… Право, господин рыцарь Печального образа, если мой отъезд и ваше сумасшествие будут не в шутку, а на самом деле, то не мешало бы снова оседлать Россинанта, чтобы он заменил мне осла, тогда я скорее съезжу и возвращусь; если же я пущусь в дорогу пешком, то я не знаю, ни когда я приду, ни когда я вернусь, уж очень я плохой ходок.