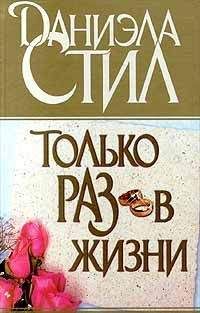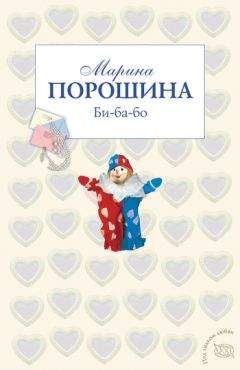Мариво - Удачливый крестьянин
Этим военный закончил свою речь, а я передаю ее так, как запомнил.
Карета остановилась, мы вышли и распрощались.
Еще не было двенадцати часов, но я спешил вручить рекомендательное письмо господину де Фекуру. Разыскать его дом было нетрудно: человек этот занимал видное положение в финансовом мире, и в городе его знали.
Я прошел один за другим несколько дворов, поднялся по лестнице и вступил в обширный кабинет, где в окружении целого общества и находился сам господин де Фекур.
Это был человек лет пятидесяти пяти – шестидесяти, довольно высокого роста, худощавый, с очень смуглым лицом и весьма суровый на вид. Суровость бывает разная. При виде иного лица мороз подирает по коже: значит, человек этот суров от природы.
Суровость же господина де Фекура не леденила душу: она унижала; его спесивый, надменный вид проистекал от сознания собственной значительности и требовал подобострастия.
Люди невольно чувствуют подобные оттенки. Все мы грешим гордыней и потому сразу распознаем ее в других; иной раз это первое, что мы замечаем, приближаясь к незнакомому человеку.
Словом, таково было первое мое впечатление от господина де Фекура. Я подошел к нему весьма смиренно. Он что-то писал под говор окружающих.
Сильно робея, я произнес заранее приготовленное приветствие; так держится маленький человек, который пришел просить о милости у важного лица, а важное лицо не желает ни помочь просителю, ни подбодрить его и даже не смотрит в его сторону; господин де Фекур слышал мои слова, но не соблаговолил на меня взглянуть.
Я протягивал ему письмо, он письма не брал, поза моя была смешна и нелепа, и я не знал, как ее переменить.
Общество, находившееся в кабинете, состояло из трех или четырех мужчин; все они на меня смотрели; ни один из них не выражал сочувствия.
Это были господа не то чтобы могущественные, но благополучные, и я рядом с ними выглядел совсем мелкой сошкой, несмотря на красную шелковую подкладку! Притом все они были уже в летах, а мне исполнилось только восемнадцать, и это тоже далеко не такое маловажное обстоятельство, как может показаться. Стоило поглядеть, как они меня рассматривали; молодость была для меня лишним поводом устыдиться себя.
«Чего хочет этот молокосос и куда он лезет со своим письмом?» – казалось, говорили их любопытные, бесцеремонные взгляды.[65]
Я был для них малоинтересным зрелищем, небольшим дивертисментом, не заслуживающим ничего, кроме пренебрежения.
Один гордо рассматривал меня через плечо; другой расхаживал по комнате, заложив руки за спину; иногда он останавливался около господина де Фекура, продолжавшего писать, и разглядывал меня во всех подробностях, с удобного расстояния.
Можете себе представить, какой я имел вид!
Третий, занятый своими мыслями, смотрел на меня отсутствующим взглядом, как смотрят на мебель или на стену.
Господин, для которого я был пустым местом, приводил меня не в меньшее замешательство, чем тот, кому я представлялся какой-то козявкой. И то и другое было одинаково обидно, и я это чувствовал всем своим существом.
Я был смущен и сконфужен до крайности. Никогда не забуду эту сцену; со временем я стал богатым человеком; я не менее, если не более богат, чем те господа, но и доныне не понимаю, откуда берутся спесивые люди, так грубо попирающие права и человеческое достоинство ближнего. Наконец, господин де Фекур все же кончил писать и протянул руку за письмом, которое я продолжал держать перед ним.
– Ну, давайте! – бросил он и тут же спросил: – Господа, который час?
– Около двенадцати, – небрежно ответил тот, что прогуливался по кабинету.
Господин де Фекур распечатал письмо и пробежал его.
– Великолепно, – сказал он. – За полтора года это пятый человек, которого невестка посылает ко мне с просьбой устроить на место. И где только она их откапывает? Конца пока не видно. Этого она рекомендует особенно горячо. Чудачка, право! Прочтите, она вся тут.
Он протянул письмо одному из присутствующих, а мне сказал:
– Хорошо, я вас устрою; завтра я возвращаюсь в Париж. Зайдите ко мне послезавтра.
Я уже собрался уходить, но он меня остановил:
– Вы очень молоды. Что вы умеете делать? Держу пари, что ничего.
– Я еще нигде не служил, сударь, – сказал я.
– Еще бы! Я так и думал, – сказал он, – других моя свояченица и не рекомендует. Хорошо еще, если вы умеете писать.
– Да, сударь, умею, – сказал я, покраснев, – и даже немного знаю арифметику.
– Да неужели! – воскликнул он насмешливо. – Право, вы слишком хороши для нас! Так ступайте, до послезавтра.
Я удалился под громкий смех этих господ, которых развеселили мои познания в арифметике и письме; в этот момент вошел лакей и доложил господину де Фекуру, что его желает видеть некая дама, назвавшаяся госпожей такой-то (он так и выразился).
– Ara! – сказал его патрон. – Я знаю, кто это. Она явилась очень кстати, пусть войдет; а вы (это относилось ко мне) подождите.
В комнату тотчас же вошли две скромно одетые дамы; одна молодая, лет двадцати, а другая – лет пятидесяти.
У обеих были печальные и умоляющие лица.
Я в жизни своей не видел такого благородного и трогательного выражения лица, как у младшей из дам; а между тем ее нельзя было назвать красивой: красотой мы считаем нечто иное.
Ее лицо не отличалось ни яркими красками, ни правильностью черт, ничто в нем не бросалось в глаза, но оно много говорило сердцу; оно внушало уважение, нежность, даже любовь, – все эти чувства вместе.
В лице этой молодой женщины, если можно так выразиться, сквозила душа, и душа чистая, благородная и нежная, – следовательно, полная очарования.
Не стану распространяться о пожилой даме, сопровождавшей ее; скажу лишь, что это была воплощенная скромность и скорбь.
Закончив разговор со мной, господин де Фекур встал из-за стола и стоя беседовал посреди кабинета с находившимися у него господами. Он довольно небрежно кивнул молодой даме, когда она направилась к нему.
– Я знаю, сударыня, что привело вас сюда, – сказал он; – я уволил вашего мужа; не моя вина, если он все время хворает и не может исполнять свои обязанности. Как прикажете быть с таким служащим? Его никогда нет на месте.
– Ах, сударь, – сказала она голосом, перед которым невозможно было устоять. – Значит, решение ваше бесповоротно? Конечно, вы правы, муж очень слаб здоровьем; до сих пор вы были так добры, что щадили его. Не лишайте же нас своего расположения, не будьте так суровы (это слово в ее устах пронзило мою душу), вы бы сжалились над нами, когда бы знали, в какой мы крайности. Горю моему нет предела, не будьте же непреклонны (кто бы мог остаться непреклонным!). Мой муж выздоровеет; вы знаете, кто мы, и знаете, как мы нуждаемся в вашем покровительстве.
Не подумайте, что она заплакала, говоря все это; мне кажется, если бы она плакала, в горе ее не было бы столько достоинства, оно показалось бы менее глубоким и менее искренним.
Но дама, сопровождавшая ее, не обладала такой силой духа, и глаза ее были полны слез.
Я ни минуты не сомневался, что господин де Фекур уступит; мне казалось, что устоять невозможно. Увы, как я был наивен! Он сохранял полное равнодушие.
Господин де Фекур жил богато; тридцать лет подряд он ни в чем себе не отказывал; а ему говорили о бедности, о безденежье, о нужде; он даже не понимал, что это такое.[66]
У него, несомненно, было жестокое от природы сердце; мне кажется, что такие сердца только ожесточаются от благополучия.[67]
– Ничем не могу помочь вам, сударыня, – сказал он. – Я не беру обратно своих слов; место вашего мужа передано другому, я обещал его вот этому молодому человеку, можете спросить у него.
От этих слов меня бросило в краску; она взглянула на меня, и я прочел в ее взгляде кроткий укор: «Вы тоже хотите причинить мне зло?» – говорил этот взгляд.
«О нет, сударыня», – ответил я тоже взглядом; не знаю, поняла ли она меня; потом я сказал вслух:
– Так вы предлагаете мне, сударь, место, которое занимает муж этой дамы?
– Да, это самое место, – ответил господин де Фекур. – Прощайте, сударыня, я ваш слуга.
– Но в этом нет нужды, сударь, – остановил я его. – Я предпочитаю подождать; вы мне предложите какую-нибудь другую должность, если такая найдется; мне не к спеху; пусть это место останется за достойным человеком, его занимавшим; я тоже мог бы оказаться в его положении, тоже мог бы захворать, и тогда я был бы рад, если бы со мной поступили так, как я поступаю с ним.
Молодая женщина, должен отметить к ее чести, не ухватилась за мои слова; она стояла, потупив взор, и молча ждала решения господина де Фекура; она не пыталась злоупотребить моим великодушием, хотя оно могло бы послужить уроком для нашего патрона.
Урок этот, как я заметил, удивил его, но и привел в крайнее раздражение: ему не понравилось, что я претендую на большую деликатность чувств, чем он.