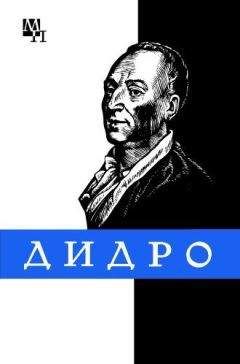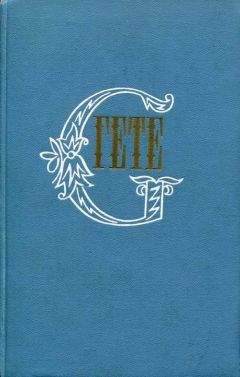Дени Дидро - Нескромные сокровища
«Я вижу ваше недоумение, – сказала она мне, – и сейчас удовлетворю ваше любопытство. Люди, изображения которых так вас поразили, были моими любимцами; они посвящали дни и ночи усовершенствованию изящных искусств, изобретательницей которых я являюсь. Они жили в самых просвещенных странах мира, и их сочинения, доставлявшие наслаждение современникам, вызывают восхищение и поныне. Подойдите поближе, и вы увидите на пьедесталах бюстов барельефные изображения на различные интересные темы; из них вы почерпнете указания относительно характера произведений».
Первый бюст, который я стала рассматривать, изображал величавого старца, показавшегося мне слепым[43]; по всей вероятности, он воспевал битвы, так как они были изображены по бокам пьедестала; переднюю сторону его занимала одна фигура, – это был молодой герой; он положил руку на рукоять меча, и видна была женская рука, которая схватила его за волосы, как бы обуздывая его гнев.
Против этого бюста стоял бюст молодого человека[44]; он был воплощением скромности; его глаза внимательно смотрели на старца; он также воспевал войну и сражения; но это не было единственным предметом его песен, ибо на боковых барельефах были изображены с одной стороны пахари, согбенные над плугами и обрабатывающие землю, а с другой – пастухи, лежащие на траве и играющие на свирели посреди баранов и собак.
Несколько поодаль от бюста старца находился бюст, изображавший человека со смятенным взглядом[45]: казалось, он следил глазами за каким-то удаляющимся предметом, внизу были изображены брошенная лира, рассыпанные лавры, разбитые колесницы и бешеные кони, несущиеся по широкой равнине.
Напротив этого бюста стоял другой, сильно меня заинтересовавший; мне кажется, я и сейчас еще вижу его; у него было хитрое выражение лица, острый огромный нос, внимательный взгляд и лукавая усмешка[46]. Барельефы, украшавшие пьедестал, изобиловали фигурами, и вздумай я вам их описать, я бы никогда не кончила.
Рассмотрев еще несколько бюстов, я принялась расспрашивать мою водительницу.
«Кто этот человек, – спросила я, – у которого на устах написана правдивость и в чертах – честность?»
«Он был, – отвечала она, – другом и жертвой обеих этих добродетелей. Всю свою жизнь он старался просветить своих соотечественников и сделать их добродетельными; а они, неблагодарные, лишили его жизни[47]».
«А этот бюст, стоящий ниже?»
«Какой? Тот, который словно поддерживают грации, изображенные по бокам пьедестала?»
«Да, именно этот».
«Это ученик, унаследовавший мудрость и принципы злополучного добродетельного мужа[48], о котором я вам говорила».
«А этот толстощекий, увенчанный виноградом и миртами?»
«Это веселый философ, единственным занятием которого было пение и наслаждение. Он умер в объятиях сладострастия[49]».
«А этот слепец?»
«Это…» – начала она отвечать.
Но я не стала ждать ее ответа. Мне показалось, что я нахожусь в знакомой мне стране, и я поспешно подошла к бюсту, стоявшему напротив[50]. На его пьедестале были изображены трофеи – различные атрибуты наук и искусств. На одной стороне пьедестала среди этих трофеев резвились амуры. На другой стороне изображены были гении политики, истории и философии. На третьей – две армии в боевом порядке, на лицах у воинов написаны были изумление и ужас, а также можно было прочесть восхищение и благоговение. Эти чувства были, по-видимому, внушены зрелищем, к которому были прикованы все взгляды. Это был умирающий молодой человек и, рядом с ним, воин более зрелого возраста, обращавший оружие против самого себя. Все в этих фигурах было необычайно прекрасно: и отчаяние одного, и оцепенение смерти, овладевшее членами другого. Приблизившись, я прочла наверху надпись, начертанную золотыми буквами:
«Увы! То сын его!»[51]
В другом месте был изображен египетский султан, в ярости вонзавший кинжал в грудь молодой женщины в присутствии толпы народа. Одни отвращали взоры, другие плакали. Вокруг изображения были выгравированы такие слова:
«Не вы ли это, Нерестан?..»[52]
Я хотела перейти к другим бюстам, когда внезапный шум заставил меня обернуться. Его производила толпа людей в длинных черных одеяниях, устремившаяся в галерею. У одних в руках были кадила, откуда вырывались клубы густого дыма, у других – гирлянды из бархатных гвоздик и других цветов, сорванных без разбора и безвкусно подобранных. Они сгрудились вокруг бюстов и стали на них кадить, распевая гимны на непонятных мне языках. Клубы дыма цеплялись за бюсты, которым украсившие их гирлянды придавали нелепый вид. Но вскоре античные бюсты обрели прежний вид; на моих глазах гирлянды увяли и осыпались на пол сухими лепестками. Среди варваров поднялся спор[53] о том, почему некоторые из них не преклонялись достаточно низко, в угоду другим, и дело, казалось, было готово дойти до рукопашной, когда моя водительница рассеяла их одним взглядом и восстановила тишину в своей обители.
Не успели они исчезнуть, как из противоположной двери вошла длинная вереница пигмеев; эти человечки не достигали и двух локтей в вышину, но зато у них были весьма острые зубы и длинные ногти[54]. Разбившись на несколько групп, они окружили бюсты. Одни старались поцарапать барельефы, и паркет был усеян обломками их ногтей, другие, еще более наглые, взгромоздившись на плечи товарищей до уровня голов бюстов, давали им щелчки. Но меня весьма забавляло, что щелчки, даже не коснувшись носа статуй, обращались на носы пигмеев. Рассмотрев пигмеев вблизи, я обнаружила, что они почти все курносы.
«Вы видите, – сказала мне моя водительница, – какова наглость этих пигмеев и постигающая их кара. Уже давно длится эта война, и всегда она для них неудачна. Я обхожусь с ними не так строго, как с черными одеждами, – ладан последних может повредить бюстам, старания же первых почти всегда лишь усиливают блеск их красоты. Но так как вам осталось провести здесь лишь час или два, советую вам перейти к другим предметам».
Тотчас же распахнулся большой занавес, и я увидела мастерскую, где работали другого рода пигмеи; у них не было ни зубов, ни ногтей, но зато они были вооружены бритвами и ножницами[55]. Они держали в руках головы, казавшиеся живыми, и занимались тем, что у одной обрезали волосы, у другой нос и уши, у третьей выкалывали правый глаз, у четвертой – левый, затем они рассекали на части почти все головы. После этой операции они начинали их разглядывать и улыбаться, как будто находили их прекраснейшими в мире. Напрасно бедные головы испускали громкие крики, – их почти не удостаивали ответом. Я слышала, как одна из них требовала обратно свой нос и доказывала, что ей невозможно никуда показаться без этой части лица.
«Э, милейшая голова, – отвечал ей пигмей, – да ты с ума сошла! Этот нос, о котором ты так сожалеешь, уродовал тебя. Он был такой длинный, длинный… С ним бы ты никогда не добилась успеха. Но теперь, когда его отрезали, ты стала очаровательной, и все будут искать с тобой знакомства».
Я сожалела об участи этих голов, когда заметила других пигмеев, более милосердных, которые ползали по земле, вооруженные очками. Они собирали носы и уши[56] и прилаживали их к каким-то старым головам, утратившим их от времени.
Некоторым из них, правда, немногим, это удавалось, другие же приставляли нос на место уха или же ухо на место носа, отчего головы становились еще более безобразными.
Мне не терпелось узнать, что означали все эти вещи, я спросила об этом мою водительницу, и она уже открыла уста, чтобы мне ответить, когда я внезапно проснулась.
– Какая досада! – заметил Мангогул. – Эта женщина открыла бы вам начало тайн. Но за отсутствием ее мы обратимся к моему фокуснику Блокулокусу.
– Как! – воскликнула фаворитка? – К этому простофиле, которому вы даровали привилегию показывать при вашем дворе волшебный фонарь?
– Да, именно к нему, – отвечал султан. – Ваш сон объяснит либо он, либо никто.
– Пусть позовут Блокулокуса, – приказал Мангогул.
Глава сорок первая
Двадцать первая и двадцать вторая пробы кольца.
Фрикамона и Калипига
Африканский автор ничего не говорит о том, что делал Мангогул в ожидании Блокулокуса. По-видимому, он отправился расспрашивать кое-какие сокровища и, удовлетворенный тем, что узнал, вернулся к фаворитке, испуская крики радости, которыми и начинается эта глава.
– Победа! Победа! – восклицал он. – Вы можете торжествовать, сударыня; и дворец, и фарфор, и маленькая обезьянка – ваши!
– Это, конечно, Эгле? – спросила фаворитка.
– Нет, сударыня, не Эгле, – отвечал султан, – это другая.
– О государь, – сказала фаворитка, – не томите меня ожиданием, сообщите, кто этот феникс…
– Ну, хорошо. Это… Кто бы мог думать?
– Это?.. – спросила фаворитка.
– Фрикамона, – отвечал султан.
– Фрикамона! – повторила Мирзоза. – Я в этом не вижу ничего невозможного. Эта женщина провела в монастыре большую часть своей юности и, с тех пор как вышла оттуда, ведет самую примерную и уединенную жизнь. Ни один мужчина не входил к ней, она сделалась как бы аббатисой и стоит во главе целой паствы молодых богомолок, которых она ведет к совершенству и которыми полон ее дом. Вам, мужчинам, там нечего делать, – прибавила фаворитка, улыбаясь и покачивая головой.