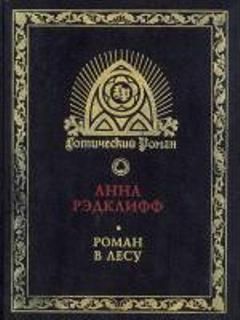Анна Рэдклифф - Роман в лесу
Но все же удержи свои слезы — жалость твоя теперь бесполезна. Давно уже прекратились мучения и стихли жалобные стоны. Это слабость — желать сострадания, ощутить которое невозможно, пока смерть не упокоит меня и я не вкушу (на что уповаю) вечного блаженства.
Итак, узнай, что в ночь двенадцатого октября 1642 года по дороге на Ко[55], на том самом месте, где воздвигнута была колонна в память о бессмертном Генрихе[56], я был схвачен четырьмя головорезами, которые, искалечив слуг моих, привезли меня через пустынные степи и густой лес в это аббатство. Они вели себя не как обычные бандиты, и скоро я понял, что их наняла некая высокопоставленная особа для совершения ужасного злодеяния. Напрасны были мои-мольбы и деньги, предложенные им, дабы они открыли имя нанимателя и отказались от своего замысла. Они не желали сообщить хотя бы самые ничтожные сведения о своих планах.
Но когда после долгого путешествия они привезли меня в это аббатство, их подлый наниматель сразу стал очевиден, а чудовищный его замысел более чем ясен. Все громы небесные обрушились на мою беззащитную голову! О мужество! Закали мое сердце, чтобы…»
Фитиль в лампе Аделины догорал, и блеклые чернила при столь слабом освещении делали напрасными все ее усилия разобрать буквы. Принести свечу снизу было невозможно, не выдав того, что она все еще бодрствует — а это могло вызвать вопросы и потребовало бы объяснений, в которые она не желала вдаваться. Таким образом, вынужденная прервать изучение рукописи, которая по многим причинам чрезвычайно ее волновала, она улеглась наконец на свое скромное ложе.
То, что она успела прочитать в манускрипте, пробудило в ней мучительный интерес к судьбе его автора, страшные картины закружились в мозгу. «В этих самых комнатах!» — воскликнула она и, задрожав, закрыла глаза. Наконец она услышала, как мадам Ла Мотт прошла в свою комнату, и фантомы страха постепенно рассеялись, позволив ей отойти ко сну.
Утром ее разбудила мадам Ла Мотт, и, к своему разочарованию, Аделина обнаружила, что проспала значительно дольше обычного, так что уже не успеет вернуться к изучению рукописи. Ла Мотт вышел к завтраку мрачнее обычного, мадам Ла Мотт тоже выглядела грустной, что Аделина приписала тревоге за нее. Едва они позавтракали, как топот копыт уведомил их, что кто-то приехал; Аделина подошла к оконной нише и увидела спешившегося у дверей маркиза. Она поспешно отступила назад и, забыв о просьбе Ла Мотта, быстрым шагом стала подниматься в свою комнату; однако маркиз, уже входивший в залу и видевший, что она уходила, с вопросительным видом повернулся к Ла Мотту. Ла Мотт окликнул Аделину и, многозначительно нахмурившись, тем напомнил ей о ее обещании. Аделина призвала на помощь все свое мужество и все-таки подошла, очевидно взволнованная; маркиз отнесся к ней с обычной своей непринужденностью в манерах; выглядел он веселым.
Аделина была поражена и шокирована его небрежной фамильярностью, однако же это пробудило ее гордость, придав ее облику достоинство, которое сразу осадило его. Теперь в речах его часто звучала неуверенность, и он, казалось, то и дело терял нить разговора. Наконец, поднявшись, он попросил Аделину уделить ему несколько минут для беседы. Мсье и мадам Ла Мотт поспешили к двери, но Аделина, повернувшись к маркизу, объявила, что не намерена слушать его иначе как в присутствии ее друзей. Впрочем, заявление это было уже ни к чему, так как Ла Мотты уже удалились, причем Ла Мотт, уходя, всем своим видом показал, как будет недоволен, если она вздумает за ними последовать.
Некоторое время она сидела молча, в трепетном ожидании.
— Я понимаю, — заговорил наконец маркиз, — что мое поведение, на которое подтолкнул меня пыл моей страсти, повредило мне в вашем мнении и что вам нелегко будет вернуть мне уважение ваше, но уповаю на то, что предложение, которое я делаю вам сейчас, — предложение титула моего и состояния — достаточно доказывает искренность моего чувства и загладит проступок, вызванный одной лишь любовью.
Выдав этот образчик банального суесловия, которое маркиз явно полагал началом триумфа, он попытался поцеловать руку Аделины, которую она поспешно отдернула со словами:
— Вам уже известны, милорд, мои чувства на сей счет, и, право, я не вижу необходимости повторять сейчас, что не могу принять честь, которую вы мне оказываете.
— Объяснитесь, очаровательная Аделина! Мне неизвестно, чтобы я когда-либо делал вам подобное предложение.
— Вы совершенно правы, сэр, — сказала Аделина, — и вы хорошо поступили, напомнив мне об этом, коль скоро я, выслушав ваше первое предложение, сочла возможным хотя бы мгновение слушать второе.
И она поднялась, чтобы выйти из зала.
— Останьтесь, мадам, — сказал маркиз, обратив на нее взгляд, в котором оскорбленная гордость боролась с желанием смирить себя, — не позволяйте себе столь экстравагантным отказом действовать противу ваших собственных интересов; вспомните об опасностях, которые вас окружают, и оцените предложение, которое может предоставить вам, по крайней мере, достойное убежище.
— Я никогда не навязывала вам, милорд, мои несчастья, каковы бы они ни были; поэтому, надеюсь, вы извините меня, если я замечу, что одно лишь упоминание о них в эту минуту гораздо больше похоже на оскорбление, чем на участие.
Маркиз, хотя явно обескураженный, намеревался все же ответить, но Аделина не пожелала остаться и удалилась к себе. Несмотря на свою беспомощность, она всей душой воспротивилась предложению маркиза и решилась ни в коем случае не принимать его. К ее неприятию его личности в целом и отвращению, умноженному его первым предложением, добавлялось, без сомнения, впечатление о ранее возникшей симпатии, память о которой она, как оказалось, не могла выбросить из сердца.
Маркиз остался обедать, и Аделина, из уважения к Ла Мотту, вышла к столу, но последний так часто обращал в ее сторону напряженные взгляды, что она была в полном отчаянии и, едва была убрана скатерть, удалилась в свою комнату. Вскоре за ней последовала и мадам Ла Мотт, так что Аделине лишь к вечеру удалось вернуться к рукописи. Когда мсье и мадам Ла Мотт ушли к себе, она засветила лампу и села читать.
«Развязав веревки, головорезы сняли меня с лошади и повели через залу, а потом вверх по винтовой лестнице. Сопротивление было бесполезно, но я все озирался вокруг в надежде увидеть кого-нибудь не столь ожесточенного, как те, что привезли меня сюда, кого-нибудь, способного испытывать жалость или хотя бы держаться человечнее. Однако все было тщетно: никто не появился, и это подтвердило мои прежние опасения. Секретность предприятия заставляла предположить самое ужасное. Между тем бандиты, миновав несколько комнат, остановились в помещении, сплошь увешанном старыми гобеленами. Я спросил, почему мы не идем дальше, и услышал в ответ, что скоро я это узнаю.
Я ожидал уже, что сейчас увижу занесенное надо мной орудие смерти, и молча вручил себя Господу. Но тогда еще смерть не ждала меня; они подняли гобелен, за ним оказалась дверь, которую они и отворили. Схватив меня за руки, они повели меня через анфиладу комнат. В самой дальней из них они снова остановились. Ужасающая мрачность этого места, казалось, весьма подходила для убийства и будила мысли о смерти. Я вновь огляделся, полагая увидеть орудие уничтожения, и вновь облегченно перевел дух. Я попросил сказать мне, какая судьба мне уготована. Кто ее уготовил, спрашивать было уже не нужно. Бандиты промолчали, но в конце концов объявили, что помещение это — моя тюрьма[57]. Затем, оставив кувшин с водой, они покинули комнату, и я услышал звук задвигаемого засова.
О, этот звук отчаяния! О, минута невыразимой тоски! Муки смерти, без сомнения, не ужасней тех, какие я тогда испытал. Запертый в темнице, лишенный света Божьего, друзей, самой жизни — ибо я несомненно предвижу это! — в расцвете лет моих, посреди грехов моих — оставленный переживать в воображении ужасы, более кошмарные, чем, возможно, дала бы реальность…[58] я падаю под их…»
Здесь несколько страниц рукописи оказались попорчены сыростью и совершенно не поддавались прочтению. С большим трудом Аделина разобрала несколько строк:
«Минули три дня в одиночестве и молчании; ужасы смерти постоянно у меня перед глазами, позволяя готовиться к ожидающей меня ужасной перемене! Утром, проснувшись, я думаю о том, что не доживу до следующей ночи, а когда вновь наступает ночь, уверен, что никогда больше глаза мои не увидят рассвета. Почему меня привезли сюда… почему я осужден так сурово… но чтобы на смерть! И какой же поступок мой в жизни заслужил сие от руки ближнего? От…
О дети мои! О мои далекие друзья! Я никогда более вас не увижу… никогда более не встречу дружеского прощального взгляда… никогда не заслужу последнего благословения! Вы даже не подозреваете, сколь ужасно мое положение — увы, вам сие не может быть ведомо, такое знание человеку недоступно. Вы верите, что я счастлив, иначе уже мчались бы мне на помощь. Я знаю: то, что я сейчас пишу, не принесет мне свободы, и все же есть утешение в самой возможности изливать свои печали, и я благословляю человека, не столь жестокого, как его товарищи, который снабдил меня всем необходимым, чтобы запечатлеть их. Увы, он слишком хорошо знает, что за такое послабление бояться ему нечего. Это перо не может призвать моих друзей на помощь, не может открыть мое отчаянное положение до того, как станет уж поздно. О ты, быть может, читающий эти строки, урони слезу, узнав о моих страданиях. Я часто плакал над страданиями моих ближних!»