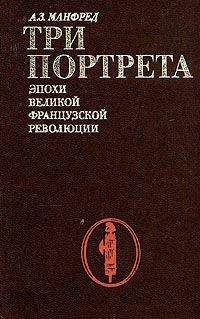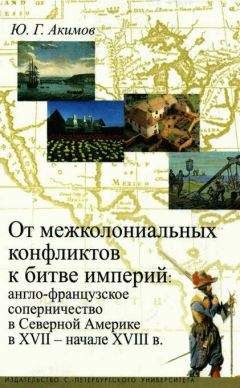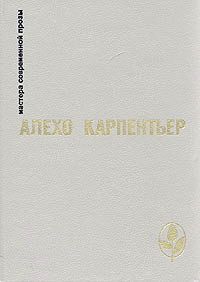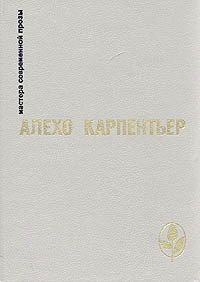Бернар Ле Бовье де Фонтенель - Рассуждения о религии, природе и разуме
— Вы даете мне представление о Сатурне, буквально меня замораживающее, — сказала маркиза, — хотя только что меня бросало в жар от вашего Меркурия.
— Так и должно быть, — возразил я, — чтобы два мира, расположенные в самых крайних точках великого вихря, были бы решительно во всем противоположны друг другу.
— Итак, — подхватила она, — на Сатурне все очень мудры: ведь вы мне сказали, что, наоборот, на Меркурии все очень глупы.
— Если и не очень мудры жители Сатурна, — сказал я, — то, по крайней мере, они, как это очевидно, весьма флегматичны. Существа эти не знают, что значит смеяться, им нужен целый день, чтобы ответить на самый пустяковый вопрос; Катона Утического они сочли бы слишком развязным и легкомысленным.
— Мне пришла в голову одна мысль, — сказала она. — Все обитатели Меркурия подвижны; наоборот, все жители Сатурна медлительны. Среди нас же одни подвижны, другие неповоротливы. Не потому ли это, что наша Земля занимает срединное положение между мирами и мы причастны к обеим крайностям? У людей вообще не бывает постоянных и определенных характеров: одни из нас подобны меркурианцам, другие — обитателям Сатурна. Мы — смесь всех видов, существующих на других планетах.
— Мне очень нравится эта идея, — подхватил я. — Мы представляем собой столь причудливое сочетание, что можно подумать, будто мы по нитке собраны из многих различных миров. В этом смысле очень удобно находиться в нашем мире: здесь можно видеть все остальные миры как бы в миниатюре.
— По крайней мере, — отвечала маркиза, — реальным удобством нашего мира, которым он обладает благодаря своему местоположению, является то, что он не слишком жарок, как Меркурий и Венера, и не слишком холоден, как Юпитер и Сатурн. Кроме того, мы с вами находимся в таком месте Земли, где мы не чувствуем крайностей жары и холода. В самом деле, если известный философ[126] благодарил природу за то, что он человек, а не зверь, и грек, а не варвар, то я лично хочу поблагодарить ее за то, что живу на самой умеренной планете во Вселенной и в самом умеренном месте этой планеты.
— Если вы послушаетесь меня, мадам, — отвечал я, — вы воздадите ей признательность за то, что вы молоды, а не стары; молоды и прекрасны, а не стары и безобразны; молоды, прекрасны и француженка, а не молоды, прекрасны и итальянка. Вот вам и много других причин для благодарности, лучших, чем те, что вы извлекаете из местоположения вашего вихря или климата вашей страны.
— Мой бог, — возразила она, — разрешите мне быть благодарной за все, вплоть до вихря, к которому я принадлежу. Ведь мера счастья, отпущенная нам, так мала, нельзя ничего из него терять. И хорошо иметь вкус к самым обычным и незначительным вещам, это позволяет обращать их себе на пользу. Если искать только сильные удовольствия, то мы обретем их мало, будем долго их ждать и дорого за них платить.
— Но вы обещаете мне, — сказал я, — что, если кто-нибудь предложит вам эти сильные удовольствия, вы вспомните о вихрях и обо мне и не бросите нас совсем на произвол судьбы?
— Да, — отвечала она, — но постарайтесь, чтобы философия всякий раз доставляла мне новые удовольствия.
— По крайней мере завтра, — отвечал я, — надеюсь, вам не будет их недоставать. У меня в запасе неподвижные звезды, которые интереснее всего того, что вы узнали до этих пор.
Вечер пятый
О том, что неподвижные звезды — это тоже солнца, каждое из которых освещает какой-нибудь мир
Маркиза проявила подлинное нетерпение, стремясь узнать, что представляют собой неподвижные звезды.
— Обитаемы ли они, как планеты? — спрашивала она. — Или же нет? Что же в конце концов мы для них придумаем?
— Возможно, вы догадаетесь, — отвечал я, — если очень этого захотите. Неподвижные звезды удалены от Земли на расстояние не менее чем в двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят раз большее, чем расстояние от нас до Солнца, которое отстоит от нас на триста тридцать миллионов лье. Это последнее расстояние — ничто в сравнении с дистанцией между Солнцем или Землей, с одной стороны, и неподвижными звездами — с другой, и потому его не дают себе даже труда принимать в расчет. Свет неподвижных звезд, как вы видите сами, достаточно силен и ярок. Если бы они получили его от Солнца, то уже крайне слабым — после такого умопомрачительного пути; да вдобавок нам они пересылали бы его с того же расстояния путем отражения, которое ослабило бы этот свет еще больше. Совершенно невозможно, чтобы отраженный свет, да еще проделавший дважды подобный путь, имел ту силу и яркость, какую имеет свет неподвижных звезд. Значит, они светятся самопроизвольно и все — если выразить это одним словом — являются солнцами.
— Уж не заблуждаюсь ли я, — воскликнула маркиза, — или я действительно вижу, куда вы хотите меня привести? Вы собираетесь мне сказать: «Неподвижные звезды — те же солнца, причем наше Солнце является центром вращающегося вокруг него вихря; почему же каждая неподвижная звезда не может быть таким же центром вихря, который бы вокруг нее вращался? У нашего Солнца есть планеты, которые оно освещает; почему же и каждой неподвижной звезде не иметь в свою очередь того, чему они давали бы свет?»
— Я хочу вам только ответить словами, сказанными Федрой Эноне: «Ты сама это молвила».[127]
— Но, — продолжала она, — вот перед нами Вселенная, столь огромная, что я в ней теряюсь: я не знаю больше, где я, меня вообще больше нет. Так что же, все будет разделено на вихри, в беспорядке перемежающие друга друга? И каждая звезда будет центром вихря, возможно столь же великого, как тот, где мы находимся? И все это неимоверное пространство, включающее наше Солнце и наши планеты, всего лишь крошечная частица Вселенной? И в ней столько же подобных пространств, сколько неподвижных звезд? Все это приводит меня в замешательство, смущает, ужасает.
— Что касается меня, то мне все это очень мило. Если бы небо было всего лишь этим голубым сводом, а звезды были бы как бы прибиты к нему гвоздями, Вселенная казалась бы мне маленькой и тесной, я чувствовал бы себя подавленным. Теперь же, когда отвели бесконечно большие просторы и глубины этому своду, разделив его на тысячи вихрей, мне кажется, я дышу свободнее, я нахожусь на более свежем воздухе и уж, конечно, Вселенная обрела совсем иное величие. Природа ничего не сэкономила, создавая Вселенную, наоборот, она всюду разбросала богатства с достойной ее щедростью. Нельзя представить себе ничего прекраснее, чем это огромное количество вихрей, в центре каждого из которых находится солнце, заставляющее вращаться вокруг себя планеты. Обитатели какой-либо планеты одного из этих вихрей видят со всех сторон солнца тех вихрей, которыми они окружены, но они совсем не видят планет этих солнц, ибо планеты светятся лишь слабым светом, заимствованным от их солнца, и свет этот не выходит за пределы своего мира.
— Вы мне предлагаете, — сказала она, — такую бесконечную перспективу, что взгляд человеческий не может достичь цели. Я ясно вижу жителей Земли; затем вы показали мне обитателей Луны и других планет нашего вихря, правда, достаточно ясно, но все же менее четко, чем жителей Земли. Далее идут обитатели планет других вихрей. Я вам признаюсь, что они как бы совершенно проваливаются, и, какие усилия я ни предпринимаю, чтобы их увидеть, я их не различаю вовсе. И в самом деле, разве все они не сведены почти на нет самим способом выражения, каким вы вынуждены пользоваться, когда о них говорите? По необходимости вы их называете обитателями одной из планет, одного из вихрей, число которых несчетно. Сознайтесь, что нас самих, к которым подходит то же самое выражение, вы почти не сумеете различить среди стольких миров. Что касается меня, то Земля начинает мне казаться ужасающе маленькой, так что впредь я, кажется мне, уже ни к чему на ней не буду стремиться. Право, если люди страстно стремятся к возвышению, если они строят планы за планами и так себя утруждают, то это лишь потому, что они ничего не знают о вихрях. Я хочу, чтобы моя лень извлекла пользу из моего нового просвещения, и, когда меня будут упрекать в бездеятельности, я буду отвечать: «А! Если бы вы знали, что такое неподвижные звезды!»
— Должно быть, Александр этого не знал, — заметил я, — ибо известный автор, считающий, что Луна обитаема, очень серьезно замечает, будто невозможно, чтобы Аристотель не придерживался столь разумного мнения (в самом деле, может ли истина ускользнуть от Аристотеля?!), просто он не хотел никогда говорить об этом,[128] опасаясь разгневать Александра, который приходил в отчаяние при мысли о мире, недоступном его завоеванию. По еще более основательной причине от него скрыли существование неподвижных звезд и их вихрей, когда узнали о них в его время: было бы плохой Услугой говорить ему об этом. Что касается меня, то, Поскольку я о них знаю, я очень сердит, что не могу извлечь пользу из своего знания. Согласно правильному вашему заключению, знание это излечивает лишь высокомерие и суетность, а я вовсе не страдаю этими недугами. Некая слабость к тому, что прекрасно, — вот болезнь, но я не верю, чтобы вихри могли мне в этом помочь. Другие миры делают для вас этот мир таким малюсеньким, но они совсем не могут испортить вам удовольствие от прекрасных очей или прелестного ротика: эти вещи всегда ценятся, назло всем мирам Вселенной.