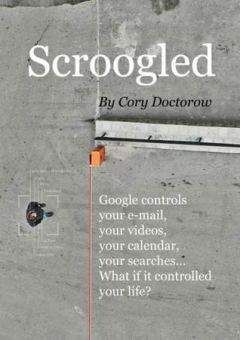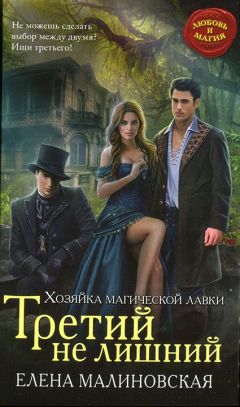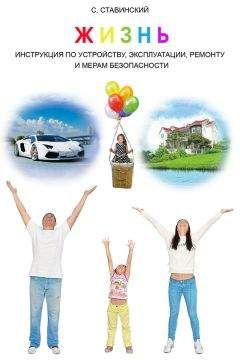Кристиан Рейтер - Шельмуфский
К заключительному эпизоду этой комедии примыкает и сатирическая надгробная речь «В память почившей в бозе честной женщины Шлампампе» («Letztes Denk– und Ehrenmal der wieland gewesenen ehrlichen Frau Schlampampe»). Относительно датировки этой речи существуют различные мнения. Одни исследователи считают, что она, вероятно, создана в ноябре 1696 г., вскоре, после написания первой комедии, и, может быть, натолкнула Рейтера на мысль разработать впоследствии мотив кончины Шлампампе в отдельной комедии. Эту речь Рейтер, видимо, читал в одном из поместий своих друзей-дворян, куда он отлучился вопреки судебному решению. Другие последователи относят «Речь» к 1697 г.
По форме своей это задорная пародия на проповедь, полная гротескового народного комизма в духе Рабле или его немецкого последователя Иоганна Фишарта – представителя так называемой «гробианской» литературы XVI в., тесно связанной с немецкой гуманистической сатирой эпохи Реформации. Произведение Рейтера отличается тем же необузданным грубовато-буффонным юмором, доходящим порой до цинизма, напряженностью языкового стиля. Это – одно из самых остроумных и смелых произведений писателя, проникнутое духом свободомыслия, предвещающее антирелигиозную сатиру Просвещения. Мужество писателя проявилось в том, что «Речь» прозвучала вызовом ортодоксально-лютеранскому университету, эпохе, когда еще верили в призраки и сжигали ведьм. Пародийно используя традиционные ритуальные формулы, уже, например, во вступлении – «Во имя всех «старух!» («In aller alter Weiber Namen!») – речь Рейтера дает нравственно-теологическое толкование стихотворного изречения, составляющего, как правило, основу всякой порядочной проповеди или надгробного слова. Но это отнюдь не библейские стихи, а старый веселый студенческий куплет, который якобы избрала для себя еще при жизни «честная женщина»:
Старые бабы и утки плавают по озеру жизни,
А когда они уже не в состоянии плавать,
Они дают дуба, задирая задницу вверх.
Разобранные выше произведения раннего Рейтера при всех их новаторских свойствах являются все же подступами к главному и лучшему его созданию – «Описание истинных, любопытных и преопасных странствований на воде и на суше Шельмуфского» (1 ред – 1696, 2 ред. – 1697) («Schelmuffskys wahrhaftige, kuriose und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und Lande») – роману, составляющему славу Рейтера и пережившему века. В ранних произведениях писателя еще присутствовали сильные автобиографические черты, им были свойственны слабость композиции, дидактизм. В «Шельмуфском» Рейтер успешно преодолевает эти недостатки, углубляет сатиру на современное общество, создает оригинальный образ, имеющий значительный исторический и общечеловеческий смысл. «Шельмуфский», хотя и сохраняет некоторые намеки на ожесточенные схватки с фрау Мюллер, уже вовсе не нуждается в подробных биографических комментариях и может быть легко понят без них как самостоятельное произведение, где факты жизни подняты до степени художественного обобщения. Не случайно университет в своем донесении Августу Сильному от 29 декабря 1699 г., перечисляя все произведения Рейтера, позорившие семью Мюллер, ни словом не упоминает «Шельмуфского».
При всей кажущейся простоте роман Рейтера – многоплановое и сложное произведение, впитавшее в себя самые разнообразные творческие традиции.
Прежде всего Шельмуфский и его «истинные, любопытные и преопасные странствования» – продолжение темы «мещанина во дворянстве», развитие образа Шлампампе, но на более высоком творческом этапе. Как ни в одном из своих прежних произведений и как никто до него в немецкой литературе, Рейтер показал резкое и комическое несоответствие стремлений, претензий немецкого бюргера стать дворянином и его истинную неприглядную сущность. Если верить Шельмуфскому, то он – «благородный молодой человек, в глазах которого светится что-то необыкновенное». Нет ни одной дамы, которая не пала бы к его ногам и не стремилась бы удостоиться чести стать его супругой. Нет ни одного поединка, в котором он не одержал бы победу, и притом зачастую над превосходящим его силами противником; где он ни появляется – в Швеции, Голландии, Англии и правее поражаются его изысканному обхождению, галантности, умению вести светскую беседу, образованности; он постоянно встречается лишь со знатными особами – графами, лордами и даже самим Великим Моголом; он разъезжает в каретах и экипажах; ему предлагают посты инспектора Совета дожей в Венеции, рейхсканцлера императора Индии; он сведущ в искусствах и науках (музыка, танцы, поэзия, математика, астрономия, фортификация); он много видел и побывал в самых различных странах. Одним словом, это истинный кавалер, который предпринял, как это было и заведено в дворянских кругах, образовательное и увеселительное путешествие. Однако на самом деле это такой же грубый и неотесанный мещанин, как и его мамаша, скорей даже крестьянский парень, воображающий о мире и людях то, что ему представляется высшими формами жизни. Его безудержная фантазия превращает бродячего собутыльника, такого же прощелыгу, как и он сам, в графа; потаскушка становится обаятельной мадам Шармант; очередное избиение героя или его драка – мужественной дуэлью или сражением, а путешествие по трактирам и пивным – блестящим вояжем, хотя в действительности он и за милю не удалялся от родного места. Его светские беседы ограничиваются рассказом об его удивительном рождении и истории с крысой. Его образование поистине не выходит за пределы весьма сомнительных знаний четырех действий арифметики по учебнику Адама Ризена. Его географические познания выдают с головой каждый раз невежду и краснобая, он завирается, и каждый раз анекдотически: наемный фургон прямо перевозит его из Лондона в Гамбург; в Венеции, расположенной на высокой скале – великая сушь; Падуя находится в получасе ходьбы от Рима; а сам «вечный город» окружен зарослями из тростника. Тибр же славится сельдями, совершенно отсутствующими в Гамбурге и Швеции, и пр. и пр.
Это лентяй и трус, который каждый раз находит благовидное оправдание полученным оплеухам и в минуту опасности предпочитает скорей спасать собственную шкуру, чем ближнего, как в случае с Шармант. За пышные приемы в его честь этот обжора и пропойца способен отплатить лишь свинским поведением, которое на деле каждый раз опровергает его бахвальство воспитанностью и учтивостью. Жизненной основой комизма образа Шельмуфского является, следовательно, разительный контраст между притязаниями немецкого бюргера и его убогим обликом. Это противоречие и порождает в книге сатирический образ самонадеянного враля и хвастуна, одного из предшественников прославленного Мюнхгаузена.
Но роман не только сатирическое разоблачение смешных потуг немецкого бюргерства, жалкой и смешной фантазии жалкого человека. В нем заложено более широкое содержание. Это сатира на время, на век, на пережившую себя старую дворянско-феодальную культуру и представителей господствующего сословия. Именно в этом смысле «Шельмуфский» углубляет критику немецкого общества, начатую Рейтером в его комедиях. Ведь этими галантными приключениями, придворными празднествами, прогулками кавалеров, операми и торжественными приемами увлечен гробианский дурачок, и тем самым через его поведение и восприятие этот «блестящий свет» выставлен на всеобщее осмеяние. Как ни буйна фантазия Шельмуфского, она, в сущности, порождена жизнью. Непомерно хвастаясь и невольно беспрерывно уличая самого себя во лжи, Шельмуфский тем не менее говорит истинную правду: ведь именно такими самоуверенными и невежественными, внешне галантными и изящными, а в действительности ведущими паразитический и скотский образ жизни и были высшие сословия в то время. Здесь напрашивается параллель с «Симплициссимусом» Гриммельсгаузена. Подобно тому как в его романе безумец, вообразивший себя Юпитером, сошедшим с Олимпа на землю, справедливо и сурово обличает социальную несправедливость в Германии эпохи Тридцатилетней войны, так и у Рейтера хвастун, враль и фантазер доказывает правду, ибо понять эту жизнь может только безумец, а идеалом в ней уже является хвастливый олух. Таковы парадоксы отмирающего века. Рейтер уже не воспринимает серьезно придворную культуру и намеренно доводит ее изображение до абсурда, так как ведь комическое – последний акт всемирной истории. Здесь мы подходим к литературным корням образа и романа и своеобразию созданного писателем типа. Образ непомерного хвастуна и враля не нов в мировой литературе. В фольклоре разных народов издавна существовали забавные рассказы об этой человеческой слабости. Богата ими была и немецкая народная поэзия. В эпоху средневековья и Возрождения в Германии бытовали песни, шванки и народные книги о поразительных вралях. Такова, например, серия шванков из «Фацетий» Г. Бебеля (1500–1512), рассказывающая о кузнеце из Каннштадта, прозванного даже «кузнецом лжи». Самые необыкновенные истории происходят с этим фантазером. Однажды он настолько примерз к седлу во время страшных холодов, что, по его словам, его невозможно было отодрать от седла и пришлось тащить к печке. В другой раз он провалился в прорубь вместе с лошадью, но не растерялся и прошел подо льдом с лошадью по дну реки на другой берег, прорубив себе выход копьем. Как впоследствии барон Мюнхгаузен, он въехал в неприятельский город на разрубленной пополам лошади, вывернул волка наизнанку и т. п. В сборнике шванков Й. Викрама «Дорожная книжечка» (1535) также встречается тип такого бахвала, «рассказывавшего об ужасных сражениях мечом, которые ему пришлось выдержать. Невозможно передать, сколько он пролил крови. Но, по моему мнению, добавляет от себя автор, дело шло лишь о пролитии крови кур, гусей и уток».[88] Совсем как наш Шельмуфский!