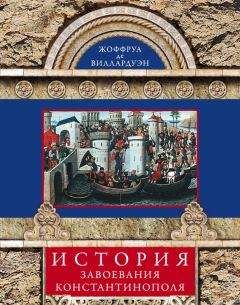Уильям Шекспир - Троил и Крессида
К роману Бенуа восходит целый ряд дальнейших обработок любовной истории Троила, и в том числе роман Боккаччо (ок. 1338 г.) «Филострато» (где героиня называется Гризеида), подражанием которому является поэма Чосера (ок. 1372 г.) «Троил и Кризида». В свою очередь, поэма Чосера была использована Лидгетом («Осада Трои», ок. 1420 г.) и Кекстоном («Собрание историй о Трое», 1475).
Помимо Чосера, Лидгета и, вероятно, Кекстона Шекспир использовал также для некоторых деталей поэму «Завещание Крсзиды» Р. Хенрисона, напечатанную в виде приложения к изданию Чосера 1532 года. Но кроме всего этого он знал также и гомеровскую версию, скорее всего по переводу Чепмена: «Семь книг Илиады» (I–II и VII–XI) 1598 года, откуда он и заимствовал образ Терсита.
Сюжет этот несколько раз обрабатывался в драматической форме еще до Шекспира. В 1516 году детская труппа королевской капеллы исполняла пьесу «Троил и Пандар». Около 1545 года ставилась «Комедия о Троиле» (по Чосеру) Никлса Гримолла. В 1572 году детской труппой Виндзорской капеллы была разыграна при дворе пьеса «Аякс и Улисс». Наконец, к 1599 году относится пьеса Четтля и Деккера «Троил и Крессида». Все эти произведения, текст которых до нас, к сожалению, не дошел, были, вероятно, неизвестны Шекспиру и, во всяком случае, почти наверное не оказали на него никакого влияния.
Разнообразие источников явилось одной из причин того, что Шекспир очень свободно скомпоновал фабулу своей пьесы. Но гораздо важнее мелких сюжетных отступлений вполне оригинальная окраска Шекспиром изображаемых им событий и разработка главных характеров. Сюда относятся, с одной стороны, глубокий лирический тон любовных сцен между Троилом и Крессидой, а с другой стороны, пародийно-сатирическое изображение греческих героев. Следуя даретовской традиции, Шекспир чрезвычайно ее усиливает. Ни в одной из предшествующих ему версий не встречается такого яркого изображения благородства Гектора (и отчасти Троила) и такого гротескного очернения греков. Его Агамемнон, гомеровский «пастырь народов», необыкновенно беспомощен; Аякс — воплощение самодовольной тупости; Менелай — неуклюж и смешон; Ахилл — эгоистичен, нагл и вероломен; Диомед (которого Крессида называет «сладкоречивым») — до крайности груб и прямолинеен. Исключение сделано только для Улисса, представленного в очень достойном виде. Но наиболее оригинально, конечно, разработаны роли Терсита, а также Пандара, образ которого очень интересовал Шекспира — уже раньше (см. «Двенадцатая ночь», III, 1; «Виндзорские насмешницы», I, 3; из позднейших пьес — «Конец — делу венец», II, 1). Слово «pandar» в значении «сводник» встречается много раз в пьесах Шекспира, который более чем кто-либо способствовал превращению собственного имени Пандара в имя нарицательное. При такой пестроте и многопланности действия вполне естественно, что ряд других образов (Елена, Патрокл, Приам и т. д.) оказался очерченным очень бледно.
Однако все до сих пор сказанное относится лишь к истории сюжета и развития пьесы, не затрагивая основной ее мысли, образующей ее внутреннее единство, несмотря на всю пестроту и кажущуюся растрепанность содержания. Единство это заключается в пессимистическом и трагическом жизнеощущении Шекспира, возникающем в эту пору и окрашивающем в черный цвет все его восприятия и оценки человеческих отношений.
Фон пьесы — война, взятая с самой мрачной своей стороны, лишенная пленительных героических иллюзий и поставленная на службу лишь темной, стихийной страсти — кружащей голову чувственной любви. Пятнадцать веков человеческое воображение окружало лучезарным ореолом миф о деяниях несравненной доблести, свершенных в древности ради любви прекраснейшей из жен. И вдруг Шекспир говорит: смотрите, вот она, тупая, бессмысленная бойня, лишенная правды, красоты, благородства. Ибо это борьба не за какие-либо положительные ценности, а единственно лишь за престиж, за фетиш чести, за мираж своего достоинства.
Троянский царевич Парис похитил у царя Менелая его жену Елену Спартанскую, и вся Греция поднялась с оружием в руках, чтобы потребовать ее возвращения. Но сам Менелай равнодушен к судьбе супруги, и народам Греции участь ее безразлична. Они объединились под верховным началом царя Агамемнона, но на самом деле полны непокорности и личных раздоров. Тщетно Улисс в своей знаменитой речи о «порядке» (I, 3) призывает греков к единству, согласованности действий, дисциплине, ссылаясь на стройность и соразмерность всего сущего, на гармонию в деятельности природных сил, среди греческих вождей господствуют личные интересы, бушуют раздоры и распри.
Несколько иную картину видим мы в Трое. Здесь больше дисциплины и единства. Но все же у троянцев нет полного убеждения в правоте того дела, за которое они борются. Стоит им выдать грекам Елену — и кровопролитной, губительной войне конец. Но нет! Однажды Троя приняла в свои стены беглянку, как бы одобрив поступок Париса. Какое же основание имеет она ныне отказывать ей в приюте? Нет нужды, что для Гектора Елена — лишь «греческая блудница» {Уже в «Оскорбленной Лукреции» Елена названа у Шекспира «шлюхой».}. Ведь достоинство вещей, аргументирует тот же Гектор (II, 2), определяется не ими самими, а нашим мнением о них. И все троянские вожди с ним согласны. И вот, по горькой иронии судьбы, честнейший и прямодушнейший из троянских героев, Гектор, оказывается оплотом сопротивления требованию греков вернуть Елену… «Честь» решает.
На фоне этой борьбы за распутную гречанку развертывается история трагической любви юного, благородного троянского царевича Троила к другой гречанке, оказавшейся заложницей в Трое, — Крессиде. Можне не до конца верить словам Пандара, что «не будь волосы се потемнее, чем у Елены, нельзя бы и решить, которая из них лучше» (I, 1, стр. 330), но несомненно, что в судьбе обеих есть некое соответствие и перекличка. Нельзя не признать однобоким и грубым отзыв о Крессиде Улисса, видящего в ней просто блудницу (IV, 5). Крессида пленительна тем, что воплощает в себе чистую женственность со всеми ее положительными и отрицательными проявлениями. Она нежна, ласкова, почтительна. Нельзя ей отказать ни в непосредственности, ни в бескорыстии. Единственно, в чем ее можно обвинить, — это в чрезмерной податливости и впечатлительности. Ей недостает контроля над своими чувствами {Любопытно, что у Чосера Крессида уступила мольбам Диомеда из жалости.}. Сама она значительно вернее и тоньше, нежели практик Улисс, определяет свою натуру:
О слабый пол! Все наши заблужденья
Зависят от игры воображенья.
Наш ум — глазам подвластен; потому
Никто не верит женскому уму.
(V, 2; см. также предыдущую сцену).
Партнер Крессиды — юный, благородный и мечтательный царевич Троил многими чертами напоминает Ромео. Он был бы, вероятно, еще более Ромео, если бы Крессида была Джульеттой. Есть даже известные соответствия в обстановке, в которой протекает начало их любви. Ритуал, совершаемый Пандаром (III, 2), — пародия на обряд любви Ромео и Джульетты, как и их «альба» — пародия на разлуку веронских любовников.
Но вскоре линии судьбы Троила и Ромео расходятся. Троил начинает ревновать, и в характере его чувства сказывается материальная природа его страсти. Когда он ревнует, в нем восстает не оскорбленное нравственное чувство (как у Отелло), а бесится обыкновенная мужская ревность. Но так же, как у Ромео, страдание возвышает его мысли, и отсюда — прекрасное надгробное слово его Гектору (V, 10).
Из других персонажей нет надобности останавливаться на характеристике тупого и чванного Аякса, окаменелого в своей важности Агамемнона, болтливого и смешноватого Нестора, грубовато-рыцарственного Диомеда, наглого драчуна Ахилла или совсем бесцветных «псевдоантагонистов» — Менелая и Париса.
Наиболее значителен Улисс — воплощение мудрости, но лишь мудрости обыденной жизни, здравого смысла, неспособного возвыситься над своим ограниченным уровнем. О последнем говорит не только его плоское суждение о Крессиде, но и совершенная неспособность к поэтическому полету мысли. Этой последней чертой он противостоит в пьесе Троилу, носителю крылатой человеческой мысли.
Женских образов в пьесе, помимо Елены и Крессиды, почти нет. Есть два более или менее положительных образа среди троянок — Кассандра и Андромаха. Но, увы. одна из них без ума, а другая безнадежно ограниченна в своей семейной стихии.
Оба лагеря имеют своих сатириков и разоблачителей: греки — Терсита, троянцы — Пандара. Это очень значительные, едва ли не ведущие фигуры в пьесе. Терсит изображен уже в «Илиаде». Но здесь он значительно шире по размаху действия. В «Илиаде» он издевается, лишь над греческими вождями, осыпая их грязной бранью; у Шекспира он высмеивает решительно все на свете, не зная предела и удержу своему сквернословию. Но замечательная вещь многие из его издевательств находят у нас понимание и сочувствие. Есть доля истины в его насмешках над отношениями между Патроклом и Ахиллом, над дутой важностью Агамемнона, над твердокаменной тупостью Аякса. Мерзко в нем лишь то, что он обобщает свои оскорбления, поливая все грязью. Отбросы и нечистоты — вот стихия, в которой он живет и черпает свой жизненный тонус. Иного рода циник, более тонкий и опасный, — Пандар.