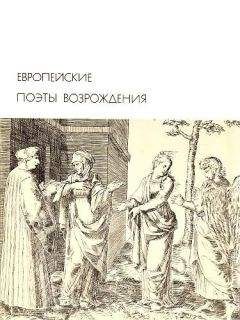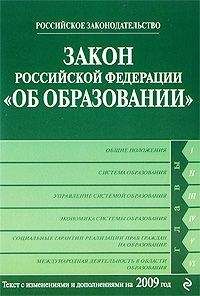Коллектив авторов - Европейские поэты Возрождения
ЭПИГРАММЫ
ЭХО ГОВОРИТЯ увидала, зажглась и, оплакав отвергнутой участь,
Стала лишь голосом я, отзвуком, ветром, ничем.
Ты пылала; огонь дотла несчастную выжег,
Остов иссушенный твой легкой распался золой.
Плакала ты; изошли глаза росой неизбывной,
И напитали твои слезы Себета струй.
Так почему же опять и пылать и плакать ты хочешь?
Быть осторожной учись, гибели горькой страшись!
Смерти вновь не ищи, не ищи себе новых мучений,
Радуйся, что за кормой скрылись утесы Сирен.
НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ
Всем шишкам шишки! Шишки просто чудо!
Орешки так и сыплются оттуда.
Поверьте, дамы, шишка — редкий плод;
Ее ни град, ни ливень не проймет.
Любой орешек положите в рот,
И масло брызнет, словно из сосуда.
Едва успев на дерево залезть,
Бросаем шишки вниз — по пять, по шесть,
А если кто еще захочет съесть,
Чуть потерпи — и станет больше груда.
Иная просит муженька: «Вон ту!»
И ловит шишку прямо на лету,
А пригласишь ее на высоту,
Надует губки — что, мол, за причуда.
Есть вещи, может быть, и поважней,
Но ты на шишки денег не жалей,
К себе покупку прижимай сильней:
Утащут шишку, то-то будет худо.
В одной орехов больше, чем в другой,
Хозяйки, подходите за любой,
Товар не залежится ходовой.
Коль денег нет, берите так покуда.
В терпенье нашем — торжества залог:
Дабы орешек выскользнуть не мог,
Нацеливай получше молоток—
И ядрами наполнится посуда.
Любовный пробуждая аппетит,
Товар на вкус не хуже, чем на вид,
И перед ним никто не устоит:
Нежнее не найти на свете блюда.
Я Вашему Великолепью шлю
Немного дичи — скромный дар, не скрою,—
Чтоб о себе, обиженном судьбою,
Напомнить вам. Увы, за что терплю?
Коленопреклоненно вас молю:
Тому, кто брызжет на меня слюною,
Заткните глотку этою едою,
Чтоб злую клевету свести к нулю.
Возможно, мне заметит Джулиано,
Увидев дар, что я не прав и тут,
Что тощий дрозд — не пища для гурмана.
Но ведь Макиавелли тоже худ,—
Скажу в ответ, — однако, как ни странно,
Наветчики меня со смаком жрут.
Прошу не счесть за труд
Ощупать птиц, и вы поймете сразу,
Что лучше доверять рукам, чем глазу.
ПЬЕТРО БЕМБО
Бегите, реки, вспять к своим истокам,
Волне вздыматься, ветер, ие давай,
Гора, приютом стань для рыбьих стай,
Дубрава, в море поднимись глубоком.
Пускай влюбленных лица и намеком
Сердечных дум не выдают, пускай
Холодным станет самый жаркий край
И солнце запад спутает с востоком.
Пусть все не так, как было, будет впредь,
С тех пор как смерть в единый миг сумела
Пленившую меня распутать сеть.
О, где ты, сладость моего удела!
Кто мог такой удар предусмотреть,
И что слова! — не в них, а в чувствах дело.
Зачем тебе, безжалостный стрелок,
Преследовать сходящего в могилу?
Напрасно уповаешь ты на силу
И лавров новых видишь в ней залог.
Стрелу оставил впрок
Для сердца ты, где места нет живого,
И раненого хочешь ранить снова,
Забыв, что он привыкнуть к боли мог.
Смотри — конец моим приходит мукам.
Кому, Амур, ты угрожаешь луком?
Я пел когда-то; сладостно ль звучали
Стихи мои — судить любви моей.
Вернуть не властен праздник прежних дней,
В слезах ищу я выхода печали.
Иные страсть разумно обуздали,
А я об этом и мечтать не смей,
По-прежнему бессильный перед ней.
Блаженны, у кого она в опале!
Любя, не оставлял надежды я
Пример счастливый завещать потомкам,—
Увы, пребудут втуне упованья.
Так пусть теперь в стихе моем негромком
Услышат все на свете крик страданья,
Включая вас, противница моя.
Ты застилаешь очи пеленою,
Желанья будишь, зажигаешь кровь,
Ты делаешь настойчивой любовь,
И мукам нашим ты подчас виною.
Зачем, уже развенчанная мною,
Во мне, надежда, ты родишься вновь?
Приманок новых сердцу не готовь:
Я твоего внимания не стою.
Счастливым счастье новое пророчь,
Что если плачут — то от сладкой боли,
А мне давно ничем нельзя помочь.
Я так измучен, что мадонны волей
С последним неудачником не прочь
Из зависти я поменяться долей.
ЛУДOBИКО АРИОСТО
Разлить ты просишь, Аннибале, свет
На то, нашел ли твой кузен удачу
У герцога Альфонсо или нет.
Ты скажешь мне, коль правды я не спрячу,
Что на спине опять небось мозоль,
Что я похож на немощную клячу.
Однако правду выслушать изволь:
Равно любое бремя ненавижу,
И не по мне скотины вьючной роль.
Толкуй про язвы на спине, про грыжу,
Считай меня хоть клячей, хоть ослом,
Кривить душою смысла я не вижу.
Когда, родившись, я, не будь глупцом,
Решился бы на некую забаву,
Проделав то же, что Сатурн, с отцом,
Чтоб все принадлежало мне по праву,
А не десятку братьев и сестер,
Составивших голодную ораву,
Безумия лягушек до сих пор
Не знал бы я и перед властелином
Без шапки не стоял, потупя взор.
Единственным, увы! я не был сыном
И мало мог на что претендовать —
И вынужден мириться с господином,
Но лучше пропитанье добывать
У герцога, чем с нищенской сумою
Пороги бедной черни обивать.
Иные поменялись бы со мною
Уделом: как ни говори — почет…
Судьбу раба почетной мнить судьбою!
Пускай, кто хочет, при дворе живет,
А я его немедленно покину,
Едва ко мне Меркурий снизойдет.
Когда одно седло на всю скотину,
Кому оно не причиняет зла,
Кому, наоборот, увечит спину.
Так соловей, в отличье от щегла,
Не может долго пребывать в неволе,
Где ласточка б и дня ие прожила.
Пусть служит, кто стремится к рабской доле,
Хоть герцогу, хоть папе, хоть царю,
Тогда как я не вижу в этом соли.
Я репу дома у себя сварю
И, уписав с подливкой без остатка,
Не хуже брюхо ублаготворю,
Чем кабаном чужим иль куропаткой.
Не надо мне парчовых одеял,
Когда и под обычным спится сладко.
Я с места бы охотней не вставал,
Чем долгим списком дальних стран хвалиться,
Где я по долгу службы побывал.
Да, каждому свое, как говорится;
Иному — сан, иному меч милей,
Иному — дом, иному — заграница.
Я уважаю интерес людей
К Испании, к английскому туману,
Но сам хочу в округе жить своей.
Ломбардию, Романью и Тоскану
Я видел — хватит этого вполне,
И лучшего нигде искать не стану,
А захочу — покажет землю мне
Без лишних трат премудрость Птолемея,
Хоть мир цари, хоть нет конца войне;
Я мысленно — нехитрая затея —
Любое из морей переплыву,
От ужаса в грозу не леденея.
Недаром в новой службе во главу
Угла я ставил с самого начала,
Что дома главным образом живу.
И служба на мои занятья мало
Влияет: уезжаю только я,
А сердце — здесь, и так всегда бывало.
Известна мне догадливость твоя:
Мол, рассмешил, мол, тут причиной дама,
А вовсе не любимые края.
Тебе на это я отвечу прямо:
Умолкни, ибо правда мне мила
И ложь не стану защищать упрямо.
Какая бы причина ни была,
Мне здесь прекрасно, но другим соваться
Я не советую в мои дела.
Иные мнят, что стоило податься
Мне в Рим — и я снискал бы благодать
И мог бы на судьбу не обижаться,
Тем паче папу другом называть
Задолго до счастливого избранья
Имел я честь. И в дни, когда мечтать
Не мог о возвращенье из изгнанья
Ни он, ни брат его, как он беглец,
Чье при дворе фельтрийском пребыванье
Украсили «Придворного» творец
И Бембо, верный культу Аполлона;
И в дни, когда вернулось наконец
Семейство Медичи в родное лоно
Флоренции, и, распростясь с Дворцом,
Бежало знамя от руки закона;
Вплоть до того, как в Риме стал он Львом
Благодаря разборчивым прелатам,
Я видел друга искреннего в нем.
Он повторял не раз, уже легатом,—
Мол, как на брата на меня смотри,
Ведь я тебя давно считаю братом.
Поэтому с иным поговори —
Я шапку черную прошляпил в Риме,
Подбитую зеленым изнутри.
Поспорю с утвержденьями такими
Примером, ты ж не сетуй: что трудней —
Читать стихи иль изъясняться ими?
Во время оно засуха на всей
Земле случилась: снова Феб, казалось,
Доверил Фаэтону лошадей.
Колодцы пересохли, не осталось
Воды в потоках, бурных испокон,
И по мостам ходить смешным считалось.
В ту пору пастырь жил, обременен
Отарами, — теперь смотрел с тоскою
На прежнее свое богатство он.
Пещеры помня с ключевой водою,
Напрасно он заглядывал туда.
И к Небу обратился он с мольбою,
И свыше озарение тогда
Про некий дол беднягу посетило,
Где воду он отыщет без труда.
С женой, с детьми, со всем, что их кормило,
Пастух — туда, и не успел копнуть,
Как влага под лопатой проступила.
Лишь небольшой сосуд, чтоб зачерпнуть,
Был у него, но он нашел решенье:
«Я первым пью, никто не обессудь.
За мной жене и детям послабленье
По праву будет. Слава богу, тут
Желанной влаги хватит всем. Терпенье.
За ними — те, кто наибольший труд,
Подобно мне, вложил в рытье колодца.
Так друг за другом все у нас попьют.
А после всех скотина пусть напьется,
Однако так же, как для вас, черед
Установить и для нее придется».
В таком порядке очередь идет,
Но, видя впереди толпу густую,
Всяк про свои заслуги нагло врет.
И тут газель, что помнила былую
Хозяйскую любовь, кричит, стеня
От жажды и обиды: «Протестую!
Я пастуху, конечно, не родня
И на труды его смотрела вчуже,
И проку мало было от меня,
Но неужели я настолько хуже
Других! И неужели наконец
Не мог и для меня найти он лужи!»
Способен удивляться лишь глупец
Тому, что Нери, Лотти, Баччи, Ванни
Меня не предпочел святой отец.
Итак, вперед, достойны первой дани,
Пьют близкие, за ними — те, кому
Престолом он обязан в Ватикане.
Потом уж те идут по одному,
Кто помогал, повергнув Содерино,
Вернуться во Флоренцию ему.
Один твердит: «Я с Пьетро в Казентино
Готовил на республику поход».
«Я в долг ему давал», — кричит Брандиио.
Еще один: «Я брата целый год
Кормил, и только с помощью моею
Он снова на коне. Иль то не в счет?»
Покуда все напьются, не имею
Желанья ни малейшего гадать,
Успею сам попить иль не успею.
Спокойнее доказанным считать,
Что своего избранника сначала
Должна Фортуна в Лете искупать.
Пожалуй, так она и поступала,
Но в данном случае, скорей всего,
Привычке старой следовать не стала.
Поверь словам кузена своего:
К его святой стопе припав губами,
Нашел я в полной памяти его.
Ко мне склонившись, он двумя руками
Пожал мне руку и обеих щек
Коснулся благосклонными устами.
Он с буллою любезно мне помог,
Но я недаром с Биббиеной дружен,
Что увеличил вдвое мой должок.
Средь ночи, в дождь, надеждами нагружен,
Заляпан грязью с головы до пят,
К «Барану» потащился я па ужин.
Допустим, папа, дар беря назад,
Не причиняет никому урона —
Мол, семена взойдут, и я богат;
Допустим, столько символов законной
Он даст мне власти, сколько с потолка
На папских мессах не видал Иона;
Допустим, щедрая его рука
В карман мне злато сыплет, не жалея,
И в рот и в чрево — аж трещат бока…
Но неужели в этом панацея?
Ужель возможно методом таким
Унять во мне алкающего змея?
Будь я стяжанья жаждой одержим,
Дорогой бы направился прямою
В Китай, на Нил, в Марокко, но не в Рим.
Затем, чтоб стать над слугами слугою
Иль чуть пониже сан иметь, когда
Все больше жажда властвует тобою,—
Какая мне карабкаться нужда
По лестнице крутой? Она едва ли
Заслуживает столького труда.
Когда-то люди на земле не знали
Теперешней коварности людской,—
Таков был мир давным-давно, в начале.
В ту пору жил под некою горой,
Граничившей вершиной с небесами,
Народ — не знаю в точности какой;
И видя то безрогой, то с рогами,
То полной, то ущербною луну,
Что круг вершит естественный над нами,
И веря, что взойдя на крутизну,
Скорей поймешь, чем глядя из долины,
Зачем луне менять величину,
Едой мешки наполнив и корзины,
И стар и млад приблизиться решил
К луне, сперва добравшись до вершины.
Но долгий в гору путь напрасен был,
И люди, убедившись в том на деле,
Наверх поднявшись, падали без сил,
А те, что снизу, поотстав, глядели,
Пускались следом чуть ли ни бегом,
Решив, что их сородичи у цели.
Гора была Фортуны колесом,
Где сверху, как досель считает кто-то,
Спокойным наслаждаются житьем.
Завись удел счастливый от почета
Или богатства, о другом мечтать
И мне б, конечно, не было расчета.
Но те же папы и другая знать,
Земные боги, не живут беспечно,
И трудно их счастливыми назвать.
Будь я богат, как турок, бесконечно,
Подобно папе будь в большой чести,
Подняться выше я мечтал бы вечно,
И должен был бы козни я плести,
О том лишь предаваясь упованьям,
Как больше, чем имею, обрести.
Но если ты владеешь достояньем
Достаточным, чтобы безбедно жить,
Сумей презренным дать отпор желаньям.
Коль в доме есть, чем голод утолить,
И есть очаг и кров, чтрбы от хлада
И зноя летнего тебя укрыть;
Когда тебе пешком идти не надо,
Меняя город, и в душе твоей
Со счастьем нет и признака разлада,
Хоть половину головы обрей,
Хоть всю, — что толку! Больше, чем вмещает
В себе сосуд, в него попробуй влей.
Да и о чести помнить подобает,
Не забывая ни на миг о том,
Что честь нередко в спесь перерастает.
Кто честью не поступится ни в чем,
Того и враг не опорочит злейший,
Что только прослывет клеветником.
Будь ты преосвященство иль светлейший,
Тебя я честным не сочту, пока
В твоей душе не разберусь, милейший.
Что радости тебе носить шелка
И видеть всех от мала до велика
Без шапок, если вслед исподтишка
Несется шепот: «Вот он, погляди-ка,
Продавший галлу Зевсовы врата,
Что поручил ему его владыка»?
Наряды раскупают неспроста:
Тем самым люди показать стремятся,
Что им одетый бедно не чета,
Однако лучше скромно одеваться
И честным быть, чем в платье из парчи,
Запятнанном бесчестьем, красоваться.
Должно быть, Бомба скажет: «Помолчи,
Была б к наживе краткая дорога —
Хоть грабь людей в лесу, хоть банк мечи.
Всегда богатству было чести много,
И мне плевать, когда меня хулят,—
Хулят и отрицают даже бога».
Минутку, Бомба: для меня стократ
Хулители Христа страшнее сброда,
Которым он безжалостно распят.
Хула тебе — хула иного рода:
Не выбрался бы ты из нищеты,
Когда бы не крапленая колода.
Не затыкай же честным людям рты!
Немногие на свете знают плечи
Парчи и шелка столько и тафты.
О тайне гнусных дел твоих и речи
Не может быть, и дабы каждый мог
Увидеть их, зажги поярче свечи.
И тот, кто мудр, и тот, кто недалек,
Понять желают, как свои палаты
Построил ты за столь короткий срок,
Что и снаружи и внутри богаты;
Но должен быть бесстрашным правдолюб,
Тогда как смелым не был никогда ты.
Не видеть, главное, хулящих губ,
А шепот за спиною стерпит Борна,
Что он родного брата душегуб.
Изгнание перенеся покорно,
Благословляет нынче он судьбу,
А поношенья, мол, — от злости черной.
Другой себя к позорному столбу
Поставил сам, решив, что не хватало
Лишь митры на его безмозглом лбу.
В злокознии он преуспел немало,
И титул уважаемый его
Смердил настолько с самого начала,
Что не представить хуже ничего.
Отрывки