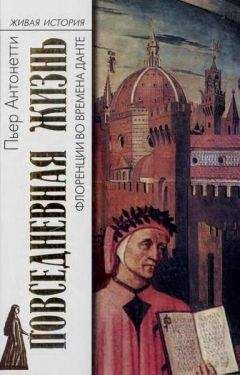Луиджи Пульчи - Лоренцо Медичи и поэты его круга. Избранные стихотворения и поэмы
Пир, или Пьяницы
Капитоло IВ те дни, когда, свой прежний цвет теряя,
Листва желтеет, и близка зима,
И всё тускнеет, словно отгорая;
Когда крестьянин, тот, что груб весьма,
Награды ждет за летние работы
И смотрит, не пусты ли закрома,
За уходящий год ведет подсчеты
Своих прибытков или же утрат,
Надеждою венчая все заботы;
И видит Вакх, как спелый виноград
Сбирают на полях с его подмогой,
И каждый тем трудам немало рад,
Тогда я, дней пробыв в Каредже много,
Где отдыхал, как это повелось,
В свой город возвращался той дорогой,
Какую выбирал не на авось
(Всегда благоразумно, полагаю,
Лишь прямиком ходить, не вкривь да вкось),
Близка Флоренция, одолеваю
Врата Фаэнцы, радость затая,
Что вот уже и кров свой обретаю;
Как вдруг увидел на дороге я
Людей, и столько, что сочтешь едва ли,
Такая набралась там толчея.
Они болтали, рта не закрывали,
Знать, новости имело большинство,
Наперебой друг с другом толковали.
Средь них тотчас приметил одного,
С которым от поры своей невинной
Я в дружбе был, теперь узнал его.
Приблизился и молвил: «Бартолино,
Куда же ты бежишь и весь народ,
И что такой поспешности причиной?
Какое вожделенье вас ведет?
Помедли, не сочти же просьбу шуткой».
От слов моих остановился тот
И этим был подобен птице чуткой,
Что, слыша голоса собратьев-птах,
Полет прервав, слетает к ним минуткой.
Тот, хоть с трудом держался на ногах,
А всё ж остановил свой шаг потешный,
Каким дотоле шел он впопыхах.
«Всё, что услышать жаждешь, друг сердечный,
Скажу тебе, как и причину ту,
По коей мы идем, и столь поспешно.
К Рифреди направляемся Мосту,
Чтоб у Джаннесси там за бочкой бочку
Опорожнять, забыв про маету.
Всяк хочет выпить и не в одиночку,
И оттого-то мчимся прямиком
Быстрее птиц, отвергнув проволочку.
Уж делла Спада с Басою-дружком,
Со всей своей ватагой неуклюжей
Пришли туда и всё им нипочем.
Такого оскорбленья не стерплю же,
Ведь обещали взять меня с собой,
И потому я негодую дюже.
Пусть греческим зальются там с лихвой,
Не знаю как, но пьют с двойною силой
И так-то жрут, что, право, боже мой!
Пусть древним подражают как им мило,
Изобличится правдой всяко зло:
Уж одного подагра надломила».
Тогда прервал его я: «Бартоло,
А кто это здесь рядом с Ромитуццо?»
И тот ответил: «Весел он зело,
Вина «противник», где слова найдутся,
Чтоб дать тебе подробнейший доклад
О том, кто носит имя Ачинуццо!
Сухие губы, в глотке сущий ад,
Едва ли он, пока еще не пьяный,
Хоть слово молвит, чтоб не невпопад».
«А кто это щекастый и румяный?
Кто двое с ним в плащах, что зрит мой взор?»
И он мне: «Все носители сутаны.
Толстяк – Антеллы доблестный приор.
Покажется по виду неопрятным,
Без чарки не выходит он на двор.
Другой, чуть позади, с лицом приятным
И с носом, что так странно заострен —
Он также рай в вине находит знатном.
То фьезоланский пастырь, носит он
С собою чашу для причастья всюду,
И капеллан с ним рядом, сер Антон.
Привержены священному сосуду,
Они не разлучатся с ним, поверь,
О прочих говорить тебе не буду.
Всегда он с ними будет, как теперь,
В какой бы край они ни заходили,
Стучаться будут с ним в любую дверь.
Когда же упокоятся в могиле,
Положат с ними эту чашу в гроб,
Чтоб и по смерти радости вкусили.
Пусть завещание составит поп!
Но видишь, все они остановились,
Стал проповедовать монаший скоп.
Созвать своих каноников потщились,
И братья все обстали их кружком,
Меж тем плащами добрыми покрылись,
Ему же чаша служит колпаком».
Стыдясь отчасти и смеясь отчасти,
На них взирал и слушал речи те
Я словно тот, кто у мечты во власти.
Как вдруг, томясь от жажды, в маете,
Один промчался мимо той дорогой.
Я вмиг его узнал по хромоте.
К нему воззвал: «Постой, о быстроногий,
Едва ль поспеет за тобою пард,
Помедли здесь со мною хоть немного».
Тот бег замедлил, свой уняв азарт,
Как конь, который сдержан узденицей.
И я ему: «Путь добрый, Адовард!»
А он: «Меня так звать уж не годится,
Впредь жажда имя мне, она дана
От Бога людям, в пору ль усомниться:
Столь ценна, благородна и славна;
Наш диспут ныне прения возбудит,
Сомнения возникнут в нем сполна.
Коль жажда к питию изрядно нудит,
То сладостна она, я признаю,
На том и решена дилемма будет.
Я жажду натуральную свою
Унять вовек, пожалуй, не сумею,
Она всё крепче, сколько я ни пью,
Подобно баснословному Антею,
Что, падая, вновь набирался сил,
Чем больше пью, тем паче вожделею.
Поскольку жажды погашает пыл
Природная вода, не пью я воду,
Лишь вкус вина мне неизменно мил.
Вином упьюсь, забуду я невзгоду,
Как прежде пил, так буду пить и впредь,
И выше блага я не ведал сроду.
Ты можешь по башке меня огреть
Дубиной, коли жаждать перестану,
Пусть смерть тогда меня поймает в сеть!»
Он в гневе говорил и, верно, спьяну,
Я слушал, преодолевая стыд;
Тут обратился Бартоло к буяну:
«Где голос потерял ты, паразит?»
И тот с трудом ответил: «В Сан Джованни,
Приорство там немало мне вредит.
Как удержаться, если я на грани,
От этого треббьяно? Весь горю,
Раскаяния чужд и покаяний.
Ничем я не обязан алтарю,
И коль умру, не будет сожалений,
Не будет сожалений, повторю.
Мое искусство – путь к могильной сени,
Смерть от него – венец всех дней моих».
Сказав, умчался точно ветр осенний.
Тут следом шедшего узнал я вмиг.
Как прочие, он также шел в угаре,
А пил обыкновенно за двоих,
С власами редкими и склонный к сваре.
«О Грасселино, – речь была моя, —
Ты честь и слава дома Адимари,
Что, в путь пустился ради пития?»
И он мне: «Не дивись, что будто крылья
В пути столь долгом обретаю я.
Проделал бы легко и сотню миль я
Такого ради, не почтя за труд».
Смолк и помчал, удвоивши усилья.
Я – Бартолино: «Посмотри, кто тут.
Скажи скорей о тех двоих, что следом,
Средь толчеи немыслимой, идут».
И тот: «А первый что, тебе неведом?
То Папи, родич мой; смеется, вот:
Он весел как всегда перед обедом.
Он вдвое больше заливает в рот,
Чем друг его; второго же, что сзади,
Как не узнать? В паландре он идет.
Ему бы стяг вручил я чести ради,
В питийственных делах он командир,
Как рыцаря почтить его бы кстати;
Стяжал он славу, выиграв турнир.
То Пандольфино, муж достопочтенный,
Столь храбро пьет он, что дивится мир».
Я честь ему воздал самозабвенно,
С почтеньем сняв свой головной убор,
И тот, как резвый струг, промчал мгновенно.
И вот он припустил во весь опор,
Ни шляпой не покрытый, ни беретом,
А был разгорячен и больно скор.
«Скажи о бегуне мне пылком этом,
Вот-вот, глядишь, он перейдет на рысь».
«Антон Мартельи – вижу по приметам:
Алеют щеки, губы запеклись,
Нос у него лиловый, ноздреватый;
Бутылки, склянки все ему сдались.
Ужель не помнишь, каково он в Прато,
За зверем мчась, однажды нашумел
И поднял куропаток сонм пернатый?
И то, что он нимало не скорбел,
Когда была украдена одежа
И полть всего, что до того имел?»
«А что за пьяная, скажи мне, рожа
Косит сейчас на тот и этот глаз?»
И он мне: «Такова, должно быть, кожа.
То Симончино Бьянко, дуропляс,
Шута на свете нету бесшабашней,
Вот левой, правой машет, разойдясь.
Его стихия – кутежи и шашни,
Он сводник преотменный, хоть куда,
Кабак ему милей, чем кров домашний».
«Кто тот, что с персиком идет сюда,
Тем самым обонянью угождая,
Хоть нос у самого забит всегда?»
«То Дзута, он портной, и пил бы, знаю,
Он только носом, до того упрям,
При этом ничего не отвергая.
Но в нашем стане это стыд и срам,
Грех против жажды, коя сводит челюсть!
Как вздумает, так пьет он тут и там.
Когда же пьет, болтает так, что прелесть:
От скуки всем томиться суждено,
Словцо пускает, вовсе не прицелясь.
Идет в Рифреди с нами пить вино,
Напьемся вдоволь, я тому порукой,
С собой прихватим бочку заодно,
Такой запас не будет нам докукой.
Вот Кандиотто Теджиа при нем,
Так любит, что ведет его за руку;
Ночь в лавке скоротают за вином».
Закончил Бартолин повествованье,
И так как время мчится и не ждет,
Он обернулся, молвив: «До свиданья».
И я ему: «Постой, так не пойдет!
О прочих удостой меня ответом,
Чтоб каждого узнал я в свой черед.
Кто этот щеголяющий беретом
И кто на плечи скинул капюшон?»
И он: «Скажу, раз просишь ты об этом.
Вон видишь, тот, кто счастьем упоен —
Бертольд Корсини, друг мой закадычный,
Стаканами размахивает он.
Так пьет он, что мочу струит прилично,
Хватило бы для мельничных колес;
Идет он, видишь, с сыном как обычно.
Сынок-то возраст нежный перерос,
В нем зримы несомненные задатки:
Отменный весельчак и виносос.
Привил отец ему сии повадки
И рад успехам выучки своей,
Ведь ученик смекалистый и хваткий».
«А кто до подбородка и ноздрей
Распялил губы, как в огне недуга?»
«Скоссину, – молвил тот, – узнай скорей, —
Ему совсем не от падучей туго,
Он так сугубой жаждою приперт,
Что идиотом выглядит пьянчуга».
«А кто это средь буйственных когорт
Проходит как нагруженное судно,
Когда маячит вожделенный порт?
Шатается, и кто он, вижу смутно,
Но явно жаждет клюв свой обмакнуть».
И тот: «Исполнить просьбу мне нетрудно.
Как тот, кто к цели довершит свой путь,
Так он, достигнув лучшего причала,
Шатнется так, чтоб жажду пошатнуть.
Он без вина подпорченный и вялый,
Припомни-ка Филиппо старика,
Он снова млад, как зазвенят бокалы».
К нему я ухо развернул слегка,
И он продолжил, видя, что хочу я
О новых всё узнать наверняка.
Так начал: «Я твое желанье чую,
Его читая на лице твоем,
Всех на словах подробно опишу я.
Вот шестеро, гляди, идут рядком,
Как ловчие, на след напавши четкий;
Все меж собою связаны родством.
Здесь Никколо ди Стьятта посередке,
Стать уксусом вину вовек не даст,
Тотчас оно в его исчезнет глотке.
Дьячетто справа, тоже пить горазд,
Великий труд он молча совершает
И, как верблюд, волочит свой балласт.
Спинельи ошуюю выступает,
И верится, что разом он сожрет
Чего и пара бочек не вмещает.
Кто сбоку, Джулиан Джинори тот,
Покажется, что щуплый он и тощий,
Но также до отвала ест и пьет,
И не смотри, что сух он точно мощи,
Ведь для него бочонок осушить,
Как станет дело, ничего нет проще.
И тот вот, за троих привыкший пить,
Коль не узнал, так то Джован Джунтини,
В застольях у него безмерна прыть.
Но о вине ты много слышал ныне,
Примеров хватит. Слева же от них
Идет Якопо твой де Марсуппини.
Хоть он и старше, знаю, остальных,
Всё ж больше жаждет, мы б его не смели
Звать хилым средь баталий питьевых.
Кто близ него, не видишь неужели,
Едва волочит он за шагом шаг?
То, я тебе скажу, Толстяк Спинелли!
Смотри, сколь отвратителен жирняк,
Вразвалочку ходить ему приятно.
А шуму-то наделал, знаешь как?
Ночной колпак (ты слышал, вероятно)
Из хлопка он напялил перед сном,
А утром снять не мог его обратно.
Зато мастак он тешиться вином,
В нем жажда день-деньской когтем скребется,
Наверно, ты сочтешь его глупцом.
К цветку пчела так рьяно не метнется,
Как он, учуя Вакха, к питию,
И жрет он так – уму не поддается;
В утробу ненасытную свою
Сыр, яйца, рыбу, мясо вполовину
С травой кидает, взяв в пример свинью.
Другой, что грязью так измазал спину,
Не тоньше будет, пьянству отдал дань,
Без хлеба жрет свою он мешанину.
И он Толстяк степенный, важный, глянь,
Он знает толк в вине и поросенке
И ввек не пьет, коль не налито всклянь.
На третьего взгляни, идет в сторонке:
Столь жирный не уместится в гурьбе,
В искусстве нашем он умелец тонкий.
Стеккуто оный, ничего себе!
Так пьет он в «Драгончино», что могу я
Едва ли описать, скажу тебе.
Наклюкавшись, тотчас на боковую,
Храп у него такой, такая вонь,
Не выдержишь, ну право, ни в какую.
Ещё всегда потеет, словно конь».
Всё на Стеккуто я смотрел, обжору,
Когда мой вождь: «Коль не обгоним их,
То к шапочному мы придем разбору».
Я подождать просил его в тот миг,
И просьбы так подействовали, к чуду,
Что слышал он приказ в словах моих.
Сказал он: «Я не против, жду покуда.
Но чем скорей отпустишь ты меня,
Тем больше я тебе обязан буду».
«Коль тяжко промедленье, – молвил я, —
То ты ничем не будешь мне обязан.
О толстяке велась уж речь твоя».
И после шедший сбоку им указан,
Он великана мне напоминал,
На муле ехал, весь как будто связан.
Я с удивленьем на него взирал —
Мессером Пьеро издали казался,
Но Бельфраделло после в нем узнал.
Спросил я: «Бартоло, ты б мне признался,
Нелепо так скакать какой резон,
Почто он к остальным не приравнялся?
«Наверно, потому, что носит он
Столь длинные одежды, видно сразу:
Не вместится в идущий легион;
Иль потому, что сумка до отказа,
Иль потому, что отроду лентяй,
Иль потому, что у него проказа.
По виду, важных дум в нем через край,
Но ты не верь, на эту мнимость глядя,
Он глупое созданье, так и знай.
Он пьет как царь, всё время при параде,
И пьют, пожалуй, элегантно столь
Лишь в папской курии, не в нашем граде.
И всё же так идти ему позволь,
С ним не захочешь и водиться даже,
Узнав, что он глупец и полный ноль.
Вон видишь, тот, в грязи, как будто в саже,
Разжирей, как болван на карнавал?
Прославленный почтарь твой, дель Бантаджо.
Таверна у него, но в ней развал:
К исходу года осушит глотками
Запас тот, что на всех приберегал.
И то же в «Обезьяне», «Фиге», «Яме»:
Мальвазии невиданный расход,
И также в «Кандиотто» временами.
Когда пакет с письмом порой придет,
Что ражими торговцами доставлен,
Пьет с ними он за адресата счет.
А вот смотри, шатается, подавлен,
Чуть позади зигзагом правит шаг
Тот, кто как истый пьяница прославлен —
Стефано-маклер; сразу вдрызг мастак
Напиться он, и во мгновенье ока;
В пруду и рыбка не проворна так.
И не иначе: как взойдет с востока
Светило дня, лучами озарив
Весь мир наш и привольно, и широко,
Так он уж пьет, расслаблен и ленив;
Когда ж садится солнце, возле кружки
Лежит как хлам, не мертв, но и не жив.
Вон трое в предвкушении пирушки
Бегут за ним». – «Отколь? – «Из Погребка!
Как свиньи, что кидаются к кормушке.
Родные братья, не узнать пока!
Один что сойка, что сороки двое,
И пьют как их отец, наверняка.
Когда за стол они садятся трое,
Учтивее не встретишь ты людей,
И дивно красноречие такое.
Матвей Стьяттезе – тот, кто всех худей,
Покажется, что с виду он усталый,
Но это всё обман, уразумей;
Тот, кто из ямы вылезает, вялый,
Соломинкой не сдержан никакой —
Толстяк мессер Паголь, питух бывалый.
И каждый мучим жаждою такой,
Что осушили б всё, как супостаты,
На засуху обрекши мир земной.
А третий с ними – грамотей завзятый,
Он в теологии на высоте,
Стал доктором, ведь помогли ребята.
В мученьях обретал познанья те,
Спасителю тем самым подражая,
Который «Жажду!» молвил на кресте;
Нам сердце будто надвое взрывая,
Порой он проповедует, своим
Тяжелым шагом через боль ступая.
Он ест и пьет подобно тем двоим,
В его цитатах Августин Блаженный
Цветет, как и Святой Иероним.
Знаток латинян, греков совершенный,
Он ведает, как ширится внутри
Телячий жир, как пить вино, отменно.
Бригадка, хоть вспотела, посмотри,
Свои изрядно глотки просушила,
Спасет литровка лишь, а то и три.
Все вялые идут, угасла сила,
Но знают, что лекарство обретут
И из горла загасят бед горнило.
Пускай же с Божьей милостью идут».
Как зоркий ястреб на охоте птичьей
Бросает с неба взор на резвых псов,
Что кинулись за сбитой им добычей,
Так вождь на них смотрел и был готов
Процессию нагнать, откинув бремя
Всех объяснений и докучных слов.
Сказал он: «Друг, летит нещадно время.
Глоток едва ли тот урвет себе,
Кто не примчится во время со всеми.
Коль каждого решусь назвать в гурьбе,
То стану я болтать как балаболка,
И дня не хватит, я скажу тебе.
Вон вижу: сер Настаджо, волей долга
Тебе его успею показать,
Но как назло он ходит слишком долго.
Эй, сер Настаджо, времени не трать!»
Услышав, тот приблизился со смехом
И к Бартоло: «Что хочешь ты сказать?»
«Ах, сер Настаджо, ты своим неспехом
Убьешь меня, поведай кой-о-ком».
И увенчалась просьба та успехом.
Сдержал я нетерпение с трудом
И молвил: «Сер Настаджо, я тут новый
И мало с кем в толпе еще знаком».
И тот в ответ: «Отрады, право слово,
Нет большей для души моей простой,
Чем счастье удовольствовать другого.
Как вышел за предел я городской,
Так рассчитал дорожки все прямые
И здесь могу беседовать с тобой».
Пока он рек, увидел впереди я
Две башни, кои двигались; теперь
Я понял, что не знаю, кто такие.
И, обернувшись: «О, удостоверь, —
Вождя я вопросил в недоуменьи, —
То человек идет иль некий зверь?»
И вождь на это: «Брось свое сомненье,
Хотя и рослы свыше всяких мер,
Всё ни к чему здесь будет опасенье.
Тот, кто рябой, зовется Уливьер,
Другой же Аполлон твой Бальдовино;
Разнятся ростом, пьют же всем в пример».
Когда второй приблизился детина,
Мой вождь ему: «О милый Аполлон,
Остановись, помедлить есть причина!
Моей перечить просьбе не резон!»
Тот нам промямлил что-то заикаясь,
Не разобрали то ни я, ни он.
Пока смотрел на них я, развлекаясь,
Обильно харкнул первый баламут,
Так звучно, что доселе слышу, каюсь.
И вождь мой: «Видишь, сколь скопилось тут
Великой жажды; какова ж блевота,
Когда они сполна в себя зальют!
Не пустяки, а памятное что-то,
Смеяться чтоб над ними иль болтать,
Не трать же времени». Но мне охота,
Читатель, об одном тебе сказать,
И не дивись, мала моя отвага,
И, верно, было б лучше промолчать.
Как встарь, когда сошла на землю влага
Плевком громадным на эмаль песка,
С водою жар сопрягся, и на благо
Верховной силой, шедшей свысока,
Лягушка зародилась в той водице,
Так вот теперь явилась из плевка.
К нам обернулся Уливьер и сице
Промолвил: «Мне б нутро ополоснуть,
Чтоб булькало слышнее». «Ох, тупица!»
Две тени те, помедлив с нами чуть,
Возобновили шаг свой великаний,
Исчезнув с глаз как молнье не блеснуть.
Тут вождь мой указал мне взмахом длани
Другого, что был в кляксах от чернил.
«Нотариус, – спросил я, – друг писаний?»
«Нотариус, – Настаджо подтвердил, —
А что он, коль исправно подкрепится,
Не будет пьян, я б споры не водил.
Нотариальный акт им сотворится,
Какому Киприан иль Россо рад,
Хоть смыслом здравым там не пахнет, мнится».
Позвав, расцеловав его двукрат,
Промолвил вождь: «О сер мой Доменико,
Как мыши – сыр, так ты мне дорог, брат.
Держать тебя не стану, поелику
Идти поспешней жаждешь и быстрей,
А этой речью сбит ты с панталыку».
И, не ответив, удалился сей.
Вот пятеро как воедино слиты,
Один известен «тихостью» речей.
Как свиньи, кои с пастбища к корыту
Бегут, чтоб мешку жадно похлебать,
Так те спешили к цели деловито.
Как только к нам приблизились все пять,
Один промолвил: «Бог да будет с вами!»
Вождь крепко поспешил его обнять.
Уж прочие подобными словами
Хотели нас приветствовать, но тот
Опередил всех красными речами.
И сер мне, от смешка прикрывши рот,
Шепнул на ухо: «Это Строццо смелый,
Болтал еще в утробе, словоплет.
Скорее скажет «голова без тела»,
Где б надо «срубленная голова»,
И спорить с ним – бессмысленное дело.
Обычно вздорны все его слова,
А выпьет – складно вяжет он глаголы,
Признаюсь, что молва о том права.
Глядишь-глядишь, русло благой Терцоллы,
Пока он будет пить и говорить,
Иссохнет, как в июле суходолы.
А тот, кто мчится обок во всю прыть,
Не скажешь: «выпьет», скажешь: «в миг единый
Всё залпом поспешит в нутро залить»,
Среди гуляк он прозван Белландино;
Вот Читто, Торнаквинчи и Паккин
Идут навстречу бравому Джунтино.
Закал у всей компании один:
Вдрызг вечно пьяны, только заявляют,
Что знают средство ото всех кручин.
Между собою споры затевают,
Но вот судья, что примиряет всех,
Хоть и не в меру горячи бывают.
И мне не удивителен твой смех», —
Так вождь мне. После ж: «Ну пора, до встречи!»
Оратор молвил и пустился в спех.
И я, и вождь, как бы лишившись речи,
Держали нить беседы что есть сил,
Как будто были там, где недалече
Свергает воды величавый Нил.
Как колокол, коль бить в него устанут,
Еще звенит, гуденье ж таково,
Что звук окрест на много миль растянут,
Вот так и Строццо уши до того
Нам оглушил своею речью странной,
Что слышать не могли мы ничего.
Когда очнулись, были как болваны,
И видим: двое, жаждая, спешат,
Слуга за ними, как один, все пьяны.
И вождь: «Столь предан не был и Ахат
Энею, как Беторию Антону
Сей Пекорачча, и слуга, и хват.
Так пес за зайцем не бежит по склону,
Как на охоте за дичиной он,
И угождает кушаньем патрону.
Слугой доволен названный Антон,
Роняет слюнки, ждет и не дождется,
А как он ест, и молвить не резон.
Когда Фортуна тылом обернется,
И Пекорачча неугоден вдруг,
Бедняга дуралеем остается.
А о питье их не скажу я, друг,
Считай, что вдвое больше жрут, и впору
Дивиться их обжорству всем вокруг.
И вот их родич, только разговору
О нем не стоит время уделять,
Не мог ты не признать сего обжору!
В искусстве нашем браво, так сказать,
Труда, науки долгою стезею
Сумел он совершенство достигать.
Еще, наверно, диспут вел с тобою
О Бельфраделло Бартоло, а он
Стал доктором поутру за едою.
Аньол Бандини: столь пригож, учен!
Хоть жирный, а в проворстве искушенный,
Идут с ним Пекорачча и Антон.
«А кто за ними, думами стесненный,
Поведай мне, – я у вождя спросил, —
С лицом багровым, потом орошенный?»
Вожатый мне на это возразил:
«Не думай, что багровый он, себе бы
Ошибку я сегодня не простил.
Как для овечки травка вместо хлеба,
Так мой Арриго пьет; лицо, гляди,
Горит в вине божественном, как небо».
«А кто это немного позади,
По виду он точь-в-точь тупая кляча,
Глазища совьи, челюсть впереди?»
«Да то от моны Бетты, твой ди Баччо,
Коль за столом узришь, каков гурман,
Сужденье поменяешь, не иначе.
Он в паразитстве преотменно рьян,
Слывет матерым, истым оглоедом,
И в лазарете б жрал он, был бы зван.
В питийстве долог счет его победам,
Такого б каждый опознать сумел…
Но не обижу я того, кто следом:
То в незакатной славе Боттичелл,
То жадный, ненасытный Боттичелли,
Пред ним и муха будет не у дел.
Забуду ль болтовню его ужели!
Коль на пирушку кто-то позовет,
Глухим не остается пустомеля:
Чуток он только приоткроет рот,
Не как во сне, а ловит что попало,
Обратно с полной бочкою идет.
И для него стыда как не бывало,
Жалеет лишь: мол, шея коротка,
Ему бы как у аиста пристала.
Он сытым не бывал наверняка
И с новыми гостями остается,
Проглоченное раструсив слегка.
Утроба же вместительней колодца,
Ты б видел! Груз не вынесет такой
И судно, что на запад понесется.
Но всё о нем; скажу о паре той,
Что вон идет ко сбору винограда,
Глянь: доблестью одарена с лихвой!
Вино им как проклятье и досада,
Один из ненасытных тех томим
Тоской о том, что не пришла награда.
Не смотрят прежде чем упиться в дым,
А лучше б на вино смотреть повесам;
Приятель то, Ридольфо Лотти с ним.
Приятель наш слывет прямым балбесом,
Под самый вакханалии финал
Прибавил двадцать восемь фунтов весом!
И что за диво, коли не снискал
Награды он? Стыжусь за проволочку,
Что он не венчан, словно в карнавал.
Другому же в одну приснилось ночку
(Под утро снится правда лишь одна),
Что, мол, не каплю вылили, а бочку.
Коль ярые враги они вина,
То и вино им тоже ворог ярый,
Чей горний пыл бьет в голову сполна.
Инжир, черешня – для гонимой пары,
Всё, что не даст отменного питья,
И каждый млад, вино ж – напиток старый».
К благому серу обернулся я:
«Скажи еще про пару мне другую,
Что рядом села», – речь была моя.
И вождь на это: «Уж толпа вплотную.
Без пояса, то Пиппо Джуньи мой,
Он медлит, удаль потеряв былую.
А Пандольфино с ним идет четой,
В игре нелегкой лук он распрямляет,
Спускаясь к дяде, что в питье герой.
Он фунт вина отнюдь не презирает
И в вакховых сраженьях верховод,
С достоинством ту должность исполняет.
Их жажда – не огонь, что сено жжет,
Не ложный пыл Бертольда, а природный
Великий жар, что силой всё возьмет.
Тот Пиппо истребитель превосходный
Вина: так им зальется удальски,
Что из башки выходит жар свободно;
И оттого в поту его виски».
Уж подходило солнце понемногу
К черте полудня, поглощая тень,
Как будто близилось к возку и рогу.
Народу прибывало: всем не лень!
Не столь густы муравы полевые,
Сколь толпище, что шло к Мосту в тот день.
Там были кривоногие, хромые,
Кто косоглазый, кто паршой порос,
Припадочные, хилые, блажные;
Одни, как херувимы, цвета роз,
Другие грыжу подвязали туго;
Вот веки рваны, вот приплюснут нос;
Пятнадцать или двадцать из их круга
Стаканы в охладителях несли,
Шли вместе, натыкаясь друг на друга.
Я также видел: перед нами шли
И те, что давят виноград удало.
Что было дальше, каждый мне внемли.
Один с другим судачили, но мало:
Как будто море, где за валом вал,
Бурлящая толпа их оттесняла.
Когда мы подошли, их вождь узнал
И подмигнул, тая в устах усмешку;
«Да здравствует бригада! – им сказал. —
Как хорошо вверху быть и в потешку,
Пред сбором винограда, пить вино,
Глотая залпом или вперемешку!»
Один ему: «Поешь ты мудрено».
Он говорил с трудом, слова глотая,
И после как отрезал: «Хватит, но!»
Обнять затем пытался краснобая
И прянул, но отброшен был волной
И обнял тех, кто рядом шел, у края.
Так пес, плывущий чрез поток речной,
Против теченья метит, но впустую,
Несется вниз, влекомый быстриной.
«О сер, мне назови его, прошу я,
Чтоб не стоял я точно дурачок».
Так я, и вождь измолвил речь такую:
То Люпичин Тедальди, мой дружок,
Ему я подмигнул, узрев при этом
Укропа на главе его пучок;
Багровый лик, глаза искрятся светом,
И на ногах стоит нетвердо он,
Но слушай, что он делал этим летом.
В жару, когда цикадный слышен звон,
С бригадой вместе (за столом сидели!)
Им был потоп нещадный учинен.
Все выплыть со стаканами сумели,
Лишь о своем стакане он грустил
И вышел налегке, без груза в теле.
Прискорбно прерван пир застольный был,
И сделалось причиной общей муки,
Что кто-то громко ветры испустил.
Под бульканье воды, под злые звуки
Воздвиглась буря; словно решето
Стаканы стали, не возьмешь и в руки.
Поднялся Люпичино и на то
Соседу сбоку молвил в раздраженьи:
«С тобою впредь не сядет уж никто.
Свершил бы ты такое прегрешенье
При древних предках, какова тогда
Была б расплата за твое смерденье?»
И тот ему: «И поделом беда:
Фасоли на обеде съели груды.
Вестимо, вздулось (ни к чему вражда!),
А жажду не залить из той посуды».
Тут Бенедетто слово взял, пия:
«Отец – вино (он молвил), и не чудо,
Что дети мы его, одна семья,
И значит, нам не след пылать враждою.
С тобой поспорю, Леонардо, я:
В вино коль погрузишься с головою,
То и наружу ты вино прольешь,
А жажду погашают и водою».
Так он сказал, и пыл угаснул сплошь,
Все утешали Люпичино следом:
«Ты, Бенедетто, – молвили, – хорош».
Антею он (тот был его соседом):
«Ты пей из рук моих, я из твоих,
Ведь без вина и добрый лад неведом».
Так вскоре воцарился мир у них,
И знай, что с Геркулесом-Люпичино
Антей на пару выпил в тот же миг.
Как ястреб, нападая на дичину,
Царапает глаза, ее слепит,
Таков был Бенедетто-молодчина.
Мгновенно пробудился аппетит,
Не нужно ни укропа, ни фасоли,
Лягушек, крабов всяк вкусить спешит.
– О них не стану говорить я боле».
Сер «с Богом!» их напутствовал засим,
И те пошли так быстро, как дотоле.
И тут я повелел зрачкам своим,
Чтоб «лучника» другого созерцали;
Растрогался мой вождь тотчас пред ним,
Обнять пытался в жарких чувств накале
Цедителя того, не преуспел:
Им животы обоим помешали.
Три раза он обнять его хотел,
Три раза простирал к нему он длани,
Три раза только тронуть грудь сумел.
И молвил: «Как толкуют горожане
Из окон, на углах между собой,
Поговорим о том вот, кто в сутане.
То стийский пастырь, милый, дорогой!
Из Казентино вышел он, конечно,
Чтобы вина залить в себя с лихвой».
«Ты прав отчасти, – отвечал нам встречный, —
Иду я в баню, чтобы наверстать
Ту жажду, что утратил бессердечно.
Хоть за двоих привык я выпивать,
Но (прежде не было) во мне застряло,
Едва глотков я сделал двадцать пять.
Я принял в Казентино средств немало,
Но снова возвратился диабет,
И тысяча лекарств не помогала.
Затем-то и спешу другим вослед,
Чтоб лихорадку обрести в итоге,
И жаждою да буду я согрет!
И всё ж не вышло – я теперь убогий,
Земная жизнь, твои постылы дни».
И сер: «На половине ты дороги;
То, что утратил, Бог тебе верни!»
Как с молоком, уже прокисшим, кадка
Колеблется, трясется так и сяк,
Когда ее несут походкой шаткой,
Так у попа, что шел вперекосяк,
Потряхивались полушарья зада,
То высоко, то низко, бряк да бряк.
Как юноша стакан несет с бравадой,
В вино свой цепкий ноготь погрузив,
Загнувши перст, дабы держать как надо,
Так пастырь хлопал пузом, ниспустив
Свои кальсоны, обнажив колени,
Искал он жажду, шаг укоротив.
Мы взоры подвели без промедлений
Ему за спину, видим: тяжкий пот
На ж… проступил, как у оленя.
Но что в своей кошелке он несет?
Сардельки вижу, сыра круг, колбаски,
Селедка также посередке прет,
Анчоуса четыре в общей связке
И всё, что приготовил он в поту:
Ни описать пером, ни молвить в сказке!
Так пастырь гордо шел сквозь тесноту,
Танцуя задом, что звенел трубою,
Со смрадом, что снести невмоготу.
А следом – некто с рожею рябою,
Жрун, у кого во рту веретено,
Пред ним себя сочтешь ты пустельгою.
«Бот поп Арлотто, всуе же грешно
То имя поминать, ведь всякий знает
(Он мокрый, как ведро!), не мудрено.
На Таинстве колен не преклоняет,
Коль в чаше хилое вино на вкус,
Ведь Бог в таком, он мнит, не пребывает.
Как встарь против природы Иисус
Священным чудом задержал светило,
Так с другом он, приняв изрядный груз,
Вдруг ночь остановил, что тьму сгустила
(Ты б только видел!), новый день смешав
Со следующей ночью. Вот так сила!
На первый день они открыли шкаф,
Сочтя его окном, затем в постели
Легли опять, лишь темень увидав.
Господь изволил, дабы не храпели,
И дома показал им свет дневной,
А то б валялись как без духа в теле.
На третий день воскресли, на второй
Будил их свет, однако же напрасно,
На третий день умчался сон хмельной».
Так этот пастырь проходил прекрасный
Меж теми, о которых говорим.
Тут на другого взведши очи ясны,
Спросил я: «Сер Жирняк, а кто засим
С шестью или семью идет в компашке,
Что, словно стражи, неразлучны с ним?
Расставил ноги (странные замашки!),
Сер Пузо, почему идет он так,
Как мальчик, у кого в штанах какашки?
На этом поэма обрывается.