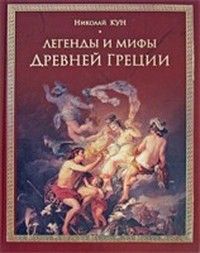Джованни Боккаччо - Декамерон
Эмилия зарделась — не столько оттого, что ее возвели на королевский престол, сколько от того, что ей при всех были сказаны слова, доставляющие особое удовольствие женщинам, — сейчас ее можно было уподобить розе, распустившейся на заре. Долго не поднимала она очей — до тех пор, пока не сбежала с ее лица краска смущения, а затем, поговорив с дворецким о делах, которые касались всего общества, повела такую речь:
— Прелестные дамы! Нам с вами нередко приходилось видеть, что волов, часть дня походивших в ярме, освобождают от ярма, распрягают и пускают пастись на воле в лесу. И еще мы видим, что сады, обильные многоразличными густолиственными деревьями, гораздо красивее тех лесов, где растут одни лишь дубы. Вот почему, приняв в рассуждение, сколько дней мы, соблюдая установленное правило, беседовали, я нахожу, что теперь нам, нуждающимся в отдыхе, было бы не только полезно, но даже необходимо погулять, а затем мы со свежими силами снова впряжемся в ярмо. И вот почему, когда мы завтра продолжим приятную нашу беседу, я не стану стеснять вас каким-нибудь одним предметом, — пусть каждый рассказывает О чем угодно, — я стою на том, что от рассказов на различные темы мы получим не меньшее наслаждение, чем если бы все мы избрали один предмет. Тем же, кто будет царствовать после меня, легче будет заставить нас, отдохнувших, по-прежнему соблюдать существующий у нас закон.
Сказавши это, королева всех отпустила до ужина.
Все изъявили королеве одобрение за ее мудрую речь, а затем встали, и тут каждый выбрал себе занятие по душе: дамы начали плести венки и развлекаться, молодые люди — играть в разные игры и петь, и так прошло у них время до ужина. Затем все уселись возле прелестного фонтана и весело, с удовольствием отужинали, а после ужина стали, по обыкновению, петь и танцевать. Под конец, несмотря на то что было уже спето немало песен, причем участники веселья сами вызывались что-нибудь спеть, королева, следуя установлению своих предшественников, сказала, что теперь должен спеть песню Панфило, и тот охотнейшим образом начал так:
Любовь! Так много счастья
Я от тебя, всевластной, получил,
Что страшный пламень твой — и тот мне мил.
Такую радость сердце ощущает,
Что не сокрыть ее,
Как ни владей собою.
Ясней с минутой каждой возвещает
О ней лицо мое
Любой своей чертою:
Тому, кто всей душою
Себя высокой страсти посвятил,
Не утаить ее победный пыл.
Но о своем восторге без предела
Хранить стараюсь я
Упорное молчанье:
Мое воображение несмело,
Убога речь моя,
И для меня страданье
Знать, что при всем желанье
Не хватит мне, увы, ни слов, ни сил
Поведать, как судьбой я взыскан был
И сам бы не дерзнул предполагать я,
Что через день всего
Придет конец остуде
И вновь друг друга примем мы в объятья.
Так можно ль ждать того,
Чтоб в столь безмерном нуде
Не усомнились люди?
Вот почему не говорить решил
Я о блаженстве, коего вкусил.
На этом Панфило кончил свою песню. Молодые дамы и юноши дружно подхватывали припев, что по мешало им необычайно внимательно вслушиваться в слова песни, дабы уловить таинственный ее смысл. Все толковали ее по-разному — и все были куда как далеки от истины. Между тем королева, приняв в соображение, что песня Панфило окончена, а молодым дамам и юношам хочется отдохнуть, велела всем идти спать.
КОНЧИЛСЯ ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
ДЕКАМЕРОНА,
НАЧИНАЕТСЯ ДЕВЯТЫЙ
В день правления Эмилии каждый рассказывает о чем угодно и о чем ему больше нравится
Уже от сиянья зари побежали ночные тени, а звездное небо из синего стало бледно-голубым, и цветы на лугах начали поднимать головки, когда Эмилия, встав с постели, велела позвать своих подружек и молодых людей. Когда они собрались, королева медленным шагом повела их к рощице, что росла недалеко от дворца, и, войдя в нее, все увидели разных животных, как, например, косуль, оленей и прочих; на них теперь почти не охотились, так как чумное поветрие не прекращалось, и они без опаски, точно прирученные, ожидали приближения людей. Люди же приближались то к тому, то к другому животному для развлечения и делали вид, что вот сейчас бросятся за ними в погоню, а животные вскачь от них убегали. Наконец солнце взошло, и все порешили вернуться. Они сплели себе венки из дубовых листьев, руки у них были полны душистых трав и цветов. Если бы кто-нибудь тогда с ними встретился, то, верно уж, сказал бы себе: «Их и смерть не возьмет, а если они и умрут, то благословляя жизнь». Так, идя тихим шагом, распевая, болтая и шуточки отпуская, дошли они до дворца, — здесь все уже было готово, их ожидали слуги с приветливыми и веселыми лицами. Дамы и молодые люди немного отдохнули, потом спели шесть песенок, одна веселей другой, после чего им подали воды для мытья рук, дворецкий согласно воле королевы усадил их за стол, тут подали кушанья, и сотрапезники в отличнейшем расположении духа отдали им должное. После трапезы все стали танцевать круговые танцы, играть на музыкальных инструментах, а затем королева дозволила желающим пойти отдохнуть. В обычный час все в определенном месте собрались для беседы. Обратив взор на Филомену, королева объявила, что положить начало нынешней беседе надлежит ей. Филомена улыбнулась и начала так.
Филомена, открывающая своим рассказом девятый день. На троне — Эмилия. Миниатюра к 1-й новелле девятого дня.
Манускрипт XV века из собрания Королевской библиотеки в Гааге.
1
Донну Франческу любят Ринуччо и Алессандро, она же их не любит; одному она приказывает лечь в склеп, как будто он мертвый, а другому велит вынести оттуда мнимого покойника; и того и другого постигает неудача; тогда донна Франческа ловко от них отделывается
— Государыня! Вашему величию заблагорассудилось вывести нас на открытое и широкое поле повествования, и мне очень лестно, что это состязание начинаю я; если же я сумею положить ему удачное начало, то можно не сомневаться, что у тех, кто будет рассказывать после меня, дело пойдет хорошо, может быть, даже еще лучше.
Из многих выслушанных нами рассказов явствовало, дражайшие дамы, каковы суть и сколь могущественны силы любви, однако я не думаю, чтобы все об этом было уже сказано, — мы бы и за целый год всего не перетолковали. Мало того что любовь подвергает любящих смертельной опасности, — она приводит их в обиталище мертвых, как будто они тоже умерли, и вот мне хочется в добавление к тому, что мы уже слышали, предложить вашему вниманию повесть, из коей вам станет ясно, сколь сильна любовь, и из коей вы узнаете, какую находчивость выказала некая достойная женщина, чтобы отвязаться от двух поклонников, любивших ее без взаимности.
Итак, да будет вам известно, что в городе Пистойе жила когда-то пригожая вдовушка, и нужно же было случиться так, чтобы ею прельстились два наших флорентийца, изгнанные из Флоренции и проживавшие в Пистойе, — Ринуччо Палермини и Алессандро Кьярмонтези{311}, причем каждый из них, не подозревая о существовании другого, хитроумно применял все имевшиеся в его распоряжении средства, дабы покорить свою возлюбленную. Оба старались воздействовать на знатную даму (звали ее донной Франческой де Ладзари{312}) посланиями и мольбами, она же имела неосторожность приклонять к ним слух, а когда благоразумие взяло верх, то отступать было уже трудно, и вот тут-то она и надумала, как избавиться от их назойливости: ей пришло в голову попросить их об одной услуге, вообще говоря — не невозможной, но для них обоих заведомо непосильной, с тем чтобы их неудача послужила для нее благовидным и разумным предлогом, дабы решительно их отвергнуть. Мысль ее состояла в следующем. В тот самый день, когда она у нее появилась, в Пистойе умер один человек, которого, несмотря на то что он вел свое происхождение от славных предков, все признавали за самого скверного человека не только во всей Пистойе, но и в целом мире. Притом он был до того уродлив, столь безобразная была у него образина, что тот, кто видел его впервые, невольно содрогался от ужаса; похоронили же его в склепе, на кладбище при монастыре миноритов{313}. Донна Франческа нашла, что это обстоятельство может способствовать успеху задуманного ею предприятия.
Она обратилась к своей служанке с такими словами: «Тебе известно, как мне надоели и опостылели послания двух флорентийцев, Ринуччо и Алессандро. Я вовсе не намерена осчастливить их своею любовью, и вот, чтобы от них отвязаться, я порешила, — ведь на словах-то они все готовы для меня сделать! — подвергнуть их испытанию, которое они, понятно, не выдержат, и тогда я буду избавлена от их назойливости. Вот что я измыслила. Тебе известно, что нынче утром похоронили на кладбище при монастыре миноритов Сканнадио (так звали того гадкого человека), а ведь его и живого пугались самые бесстрашные люди в нашем городе. Так вот сбегай сперва к Алессандро и скажи: «Донна Франческа велела тебе передать, что она готова полюбить тебя и, если хочешь, побыть с тобою наедине, но вот что для этого нужно сделать. По причине, которую она тебе потом объяснит, один из ее родственников должен принести ей ночью тело Сканнадио, которого нынче утром похоронили, но она этого не хочет, потому что боится. Так вот, она просит тебя оказать ей большую услугу: ночью, в первосонье, пойди на кладбище, войди в склеп, где похоронен Сканнадио, надень на себя его саван, ляг на его место и жди: за тобой придут — а ты молчи, ни звука! — и отнесут к ней в дом, она тебя встретит, и ты с ней побудешь, потом уйдешь, а она все уладит». Согласится Алессандро — отлично, а если нет, то скажи ему от моего имени, чтобы он не смел попадаться мне на глаза и, если только ему дорога жизнь, не рисковал посылать мне письма. От него пойди к Ринуччо Палермини и скажи: «Донна Франческа говорит, что исполнит любое твое желание, если ты окажешь ей большую услугу: в полночь войди в тот склеп, где утром похоронили Сканнадио, и, не издав ни звука, что бы ты там ни увидел, ни услышал и ни испытал, осторожно достань его тело и отнеси к ней в дом. Там ты узнаешь, почему она обратилась к тебе с такой просьбой, и утолишь свою страсть. Если же ты откажешься, то она воспретит тебе посылать ей письма».