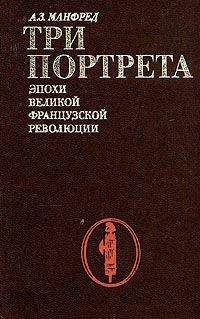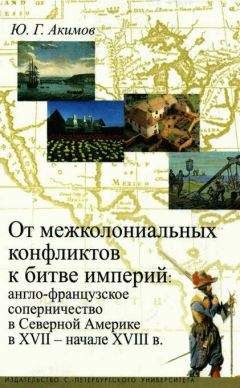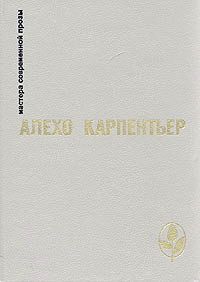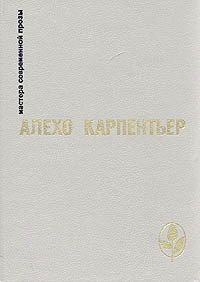Бернар Ле Бовье де Фонтенель - Рассуждения о религии, природе и разуме
Парацельс. О! Нет такого ничтожного философа, который не думал бы, что достиг в этом цели.
Мольер. Допускаю. Итак, для вас не осталось ничего затруднительного в вопросах природы человеческой души, ее функций и связи с телом?
Парацельс. Откровенно говоря, не бывает, чтобы не оставалась хоть какая-нибудь сложность в этих вопросах; но в конце концов в этой области знают столько, сколько это под силу знать философии.
Мольер. И вы здесь не знаете ничего большего?
Парацельс. Нет. Но разве этого недостаточно?
Мольер. Недостаточно?! Это вообще ничто. И все-таки, вы сумели бы воспарить над людьми, которых вы не знали, дабы достичь общения с духами?
Парацельс. Духи — это нечто более всего возбуждающее естественное любопытство.
Мольер. Это верно. Но думать о них позволительно лишь после того, как уже все доподлинно известно о людях. Ведь при виде того, как человеческий ум создает себе объекты исследования, быть может не имеющие в себе ничего реального, вокруг которых он бьется ради одного только удовольствия, можно было бы сказать, что он совсем истощился. Между тем, несомненно, если бы он того пожелал, оказалось бы достаточно много весьма реальных объектов, занявших бы его внимание целиком.
Парацельс. Наш ум, естественно, пренебрегает слишком простыми познаниями и стремится к тем, что исполнены тайны. Только в этих случаях он может проявить всю свою активность.
Мольер. Тем хуже для ума; все, что вы говорите, служит к полному его посрамлению. Истина является перед ним, но, так как она слишком проста, он ее не признает и вместо нее начинает заниматься смешными ей тайнами — лишь потому, что это тайны. Я убежден, что, если бы большинство людей, не замечающих ни значения чисел, ни свойств планет, ни необходимости, господствующей в определенные времена и при определенных круговращениях Вселенной, видели её порядок таким, каков он есть, они не удержались бы от восклицания в адрес этого восхитительного порядка: «Как! И это все?»
Парацельс. Вы изображаете смешными тайны, в которые не сумели проникнуть и которые в действительности хранятся для великих людей.
Мольер. Я гораздо больше уважаю тех, кто совсем ничего не смыслит во всех этих тайнах, чем тех, кто их понимает. К сожалению, однако, природа не добилась того, чтобы весь свет в них ничего не смыслил.
Парацельс. Но вы, высказывающийся столь авторитетно, какую вы имели профессию в своей жизни?
Мольер. Профессию весьма отличную от вашей. Вы исследовали достоинства духов, я же — людские глупости.
Парацельс. Ну и исследование! Разве и так не известно, что люди существуют для того, чтобы делать тысячи глупостей?
Мольер. Это известно лишь в общем и достаточно смутно. Однако если заняться этим детально, то прямо-таки дух захватывает от обширности этой науки.
Парацельс. Но в конце концов какую вы извлекли из нее пользу?
Мольер. Я собирал в одно место возможно большее число людей и там показывал им, что все они глупцы.
Парацельс. Но чтобы убедить их в подобной истине, требовалось, несомненно, говорить без конца?
Мольер. На самом деле нет ничего легче. Им показывают их глупость, не пуская в ход никаких уловок красноречия и хорошо обдуманных рассуждений. Все, что делают люди, настолько смешно, что стоит им наглядно показать их поступки, и вы увидите, как они лопнут от смеха.
Парацельс. Я вас понял, вы комедиант. Что касается меня, то я не понимаю удовольствия, получаемого людьми от комедии: они приходят на нее, чтобы посмеяться над представляемыми в ней нравами. Но почему не смеются они над нравами в жизни?
Мольер. Чтобы смеяться над нравами света, надо находиться как бы вне их, а этого-то и достигает комедия: она представляет вам все в виде зрелища, так, как если бы вы не являлись его участником.
Парацельс. Но зрители ведь немедленно включаются в то, над чем они смеются, и таким образом начинают принимать в этом участие?
Мольер. Будьте уверены в этом. Вчера в виде развлечения я написал здесь на этот сюжет басню: молодой гусенок лениво летит — как обычно летают такие вот птицы; в один из моментов этого полета, когда он летит не выше, чем на фут от земли, он обрушивается на всех остальных обитателей птичьего двора. «Несчастная вы скотинка, — говорит он, — я смотрю на вас с высоты, вы же не умеете так расправлять крылья». Насмешка эта была недолгой, гусенок в тот же самый миг падает обратно на землю.
Парацельс. Но для чего же нужны комедийные мысли, если они напоминают полет этого вот гусенка и если каждый снова впадает в обыденную глупость?
Мольер. Посмеяться над собой — это уже очень много. Природа даровала нам чудесную способность мешать самим себе быть дураками в собственных глазах. Сколько раз бывает, что, в то время как одна наша часть делает что-нибудь со всем усердием и пылом, другая часть над этим смеется! И поверьте, если бы была в том нужда, нашлась бы и третья часть, которая смеялась бы над двумя остальными. Разве не говорят, что человек создан из взаимно дополняющих друг друга частей?
Парацельс. Я не считаю, что тут, во всем этом, есть предмет для серьезного упражнения нашего ума. Несколько легкомысленных размышлений либо малообоснованных (что очень часто бывает) шуток не заслуживают большого уважения: а ведь сколь великие усилия должна делать наша созерцательная способность Для того, чтобы подняться до предметов возвышенных!
Мольер. Вы снова толкуете о своих духах; что касается меня, то я признаю только моих глупцов. Впрочем, хотя я всю жизнь трудился лишь над этими предметами, выставленными напоказ всему свету, я могу вам уверенно предсказать, что мои комедии переживут ваши возвышенные произведения. Все ведь подвержено переменам моды. Судьба произведений ума не завиднее судьбы одеяний. Я видел бог знает сколько книг и видов писаний, погребенных вместе с их авторами — так, как У некоторых народов кладут в захоронения мертвецов вещи, бывшие им наиболее дорогими в жизни. Я-то отлично знаю, какие перевороты могут происходить в литературной империи; и при всем том я ручаюсь за долговечность моих комедий. Причина этого мне ясна: тот, кто хочет создать бессмертные образы, должен писать дураков.
Лжедимитрий III, Декарт
Декарт. Я должен знать северные страны почти что не хуже вас. Порядочную часть своей жизни я жил и философствовал в Голландии; а под конец я умер в Швеции,[54] будучи еще большим философом, чем когда бы то ни было.
Лжедимитрий. Я вижу по наброску вашей жизни, который вы сделали, что она была весьма приятной. Вас целиком занимала философия. Я-то жил далеко не так безмятежно.
Декарт. Это ваша собственная вина. Что это вам вздумалось сделаться Великим князем Московским и при этом воспользоваться столь негодными средствами? Вы задумали выдать себя за царевича Димитрия, которому принадлежал трон, а ведь у вас перед глазами уже был пример двух Лжедимитриев: они один за другим взяли себе это имя, но были разоблачены и злополучно погибли. Вам бы следовало дать себе труд изобрести какую-то новую ложь: ведь ясно было, что, уже не раз использованная, она не могла иметь успеха.
Лжедимитрий. Между нами, московитяне совсем не такие тонкие люди. Они имеют глупость претендовать на сходство с древними греками:[55] бог весть, на чем основаны эти их претензии.
Декарт. И все-таки они были не так глупы, чтобы дать одурачить себя трем Лжедимитриям подряд. Я убежден, что, когда вы затеяли свои притязания на титул царевича, почти все они с презрением воскликнули: «Ну и ну! Неужели мы увидим еще одного Димитрия?!»
Лжедимитрий. Однако я позаботился о том, чтобы сколотить вокруг себя большую партию. Имя Димитрия было любимо: на него-то все и сбегались. Вы же знаете, что такое толпа.
Декарт. И вас нисколько не устрашил скандальный конец двух других Димитриев?
Лжедимитрий. Напротив, их пример меня вдохновлял. Разве не должны были все подумать, что только подлинный Димитрий мог посметь появиться после того, что случилось с двумя другими? Это было весьма отважным поступком, каким бы ни был настоящий Димитрий.
Декарт. Но если бы вы были первым, взявшим себе это имя, как могли бы вы быть столь бесстыдным, чтобы принять его, не имея уверенности в том, что сумеете представить достаточно правдоподобные доказательства?
Лжедимитрий. А вы, который задаете мне столько вопросов и которому так трудно угодить, как осмелились вы выдать себя за родоначальника новой философии,[56] все таинственные истины которой до вас оставались закрытой книгой?