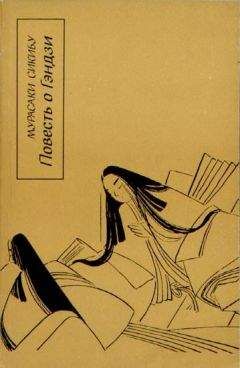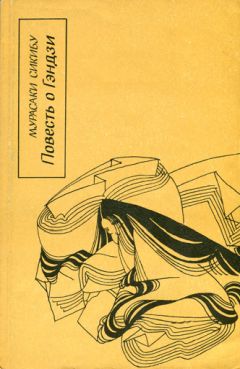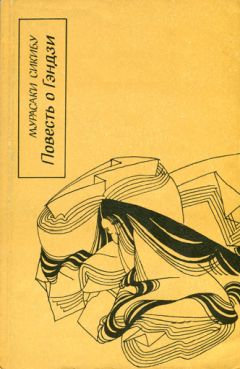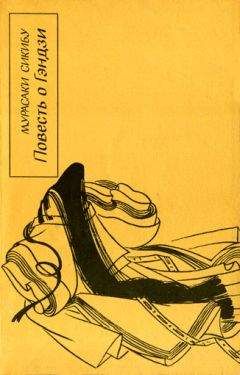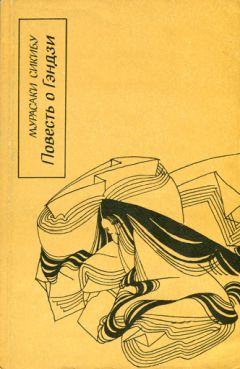Абу Мухаммед Али Ибн Хазм - Средневековая андалусская проза
Сказав это, он поднял на дыбы своего вороного, перескочил через стену сада и скрылся, покинув меня.
С тех пор, о Абу Бакр, когда я не могу найти подходящего слова, путаюсь и сбиваюсь с дороги, как частенько бывает с любым поэтом, либо плетусь в хвосте у древних, что также у нас не редкость, я всегда произношу те стихи, и мой друг и спаситель-джинн предстает предо мною. И тогда я прямиком иду к тому, чего добивался, я моего скудного таланта оказывается достаточно для того, чтобы привести меня к цели. Наша дружба с Зухайром окрепла, и о ней можно было бы поведать множество чудесных историй, если бы я не опасался сделать рассказ мой слишком длинным, подобным историям некоторых моих собратьев. Я сообщу тебе лишь самые удивительные вещи.
Однажды мы с Зухайром читали друг другу стихи разных поэтов и припоминали повествования о красноречивых людях и о тех джиннах и духах, которые им в этом помогали, не требуя возмещения и платы. Я спросил у Зухайра: «О друг и покровитель, который дороже мне моей матери и отца, не сможешь ли ты устроить так, чтобы встретиться нам с кем-нибудь из этих джиннов и духов? Может быть, я переманю кого на свою сторону, чтобы мой соперник остался без помощника?» Но Зухайр ответствовал: «Об этом не может быть и речи, и даже на то, чтобы показать тебе страну джиннов, я должен спросить у нашего шейха позволения и согласия». Он тотчас же взлетел в небеса и вернулся во мгновение, сказав, что шейх дал свое милостивое разрешение, и прибавил: «А теперь садись со мной на моего коня». И не успел я взобраться в седло, как конь его помчал нас, то пересекая одну пустыню за другой, то поднимаясь в воздух, словно птица. Наконец я заметил землю, не похожую на нашу землю, и вдохнул воздух, отличающийся от нашего воздуха. В том краю прозябали густолистые деревья, благовонные цветы и травы, точно такие, как описывали наши велеречивые поэты. Зухайр сказал мне: «О Абу Амир, ты находишься сейчас в стране джиннов. С кого хотел бы ты начать знакомство?» Я отвечал ему: «Нам должно предпочитать проповедников и благочестивцев, по мне больше по душе поэты».
Тогда Зухайр осведомился: «Какого же духа-покровителя ты хотел бы увидеть?» Я воскликнул: «Я желаю увидеть духа-покровителя Имруулькайса!» И мой проводник, повернув коня, направился к воспетой Имруулькайсом долине Сакт аль-Лива, а потом к излюбленному им ущелью, либо к другому подобному месту, где, как и должно быть согласно словам поэтов, возвышались огромные деревья, окруженные неизбежной молодой порослью, и на ветвях без конца заливались всем надоевшие певчие птицы.
Тут Зухайр крикнул: «Эй, дух-покровитель Имруулькайса! Эй, Утайба ибн Науфаль[150]! Заклинаю тебя известным каждому Сакт аль-Лива, и набившим оскомину Хаумалем[151], и печально знаменитым днем Дарат Джульджуля[152]! Покажи нам свой лик, прочти нам свои стихи, послушай вирши этого сына человеческого, что от страха едва не лишился чувства и сознания, и покажи нам свое непревзойденное искусство и умение!» И пред нами предстал всадник на коне, золотистом, словно светлое пламя, и сказал: «Да приветствует тебя Аллах, о Зухайр! Да приветствует он твоего спутника! Но что я вижу! Ужель этот тщедушный щеголь и есть прославленный молодец среди арабских поэтов из рода человеческого? И этому-то ты помогаешь? Не таков был мой поэт — царь кочевых арабов!» Уязвленный его словами, я промолвил: «Да, я он самый и есть! Может я и тщедушен, но какой во мне огонь, о Утайба!» И тогда Утайба воскликнул: «Читай стихи, горе тебе, смертный!» Но я возразил: «Господину поэтов больше пристало начинать!» Тогда он, подняв очи горе, затрепетал от прилива вдохновения, натянул поводья золотистого коня и ударил его бичом. Конь взвился на дыбы и унес всадника далеко от нас, но тот снова повернул его и, помчавшись к нам, наставил на нас копье. Внезапно остановившись, он произнес:
Страсть моя меня сразила, и моя иссякла сила…
И он продолжал касыду, пока не дошел до ее конца, а потом велел мне: «Говори свои стихи!» Я сначала хотел бежать от него, чтобы не получить удара копьем за плохие рифмы, но потом, укрепив свой дух, начал:
Мне жаль шатров Сулаймы в лучах вечерней звезды…
И я продолжал, пока не дошел до слов:
С вершины, откуда вниз лишь ветер срывается,
Едва-едва поутру коснувшись тихой воды,
Спускался я в темноте, как в море бушующем,
Чьи волны бились вокруг, смывая мои следы.
Под мышкою нес я меч, отточенный добела,
В руке держал я копье, ничьей не страшась вражды.
Мой меч и мое копье — друзья мои верные,
Которые с детских лет хранят меня от беды.
Таится в ножнах ручей, которым я смерть пою,
В руке плодоносит ветвь, но кровоточат плоды.
Когда я кончил, Утайба посмотрел на меня и сказал: «Иди, смертный, я удостоверяю, что ты поистине поэт милостью божьей».
А вот рассказ о последних днях Абу Амира и о его кончине, да помилует его Аллах!
Абу Амир долго болел и сильно страдал от паралича, который случился с ним в начале месяца зу-ль-када в четыреста двадцать пятом году[153]. Болезнь не лишила его возможности двигаться, — он даже ходил, если была необходимость, или с помощью палки, либо опираясь на кого-нибудь из своих слуг. Но за двадцать дней до своей кончины он будто превратился в камень, который нельзя ни поднять, ни сдвинуть с места. И никто не мог прикоснуться к нему из-за того, что он испытывал сильнейшую боль, так что хотел даже покончить с собой. Об этом он говорит в своих стихах:
Оплакать пора мне душу: ее сгубили тревоги,
Которые меня сбили с прямой и верной дороги.
Заранее принимаю любой приговор Аллаха;
Его решения святы, хоть, может быть, слишком строги.
Сидеть обречен я в доме, шагнуть не в силах без палки;
Расслабленный, изнываю: недуг сковал мои ноги.
Сразил меня меч несчастья; ребенок — мой провожатый;
О, как потомки Адама беспомощны и убоги!
А ведь, бывало, соперник дрожал, посрамленный мною;
Врывался дождем желанным в лачуги я и в чертоги.
Противников поражал я отточенными стихами,
Ценимыми, словно клады, бесценными, как залоги.
Поверит ли друг мой прежний, что я породнился с горем
И хуже всякой преграды теперь для меня пороги?
Привет вам от человека, в которого смерть вцепилась,
Коснувшись нетерпеливо моей души-недотроги.
Вот-вот она душу вырвет, по кажется смерть ничтожной,
Как жизнь в треволненье тщетном, когда подведешь итоги».
РАССКАЗ ОБ АБУ-ЛЬ-ВАЛИДЕ ИБН ЗАЙДУНЕ И АЛЬ-ВАЛЛАДЕ
Вазир и катиб Абу-ль-Валид ибн Зайдун был великим мастером стихов и прозы, несравненно было его искусство и удивителен ум, и был он лучшим из поэтов людей Бану Махзум. Он жил полной жизнью, оставив далеко позади прочих людей, и пользовался своей властью не только на пользу себе, но и во вред.
Он широко раскинул плащ своего красноречия, с которым даже море не могло сравниться глубиной, а луна — блеском. Чары и заклинания не имели такой силы, как его стихи, а сверкающие звезды меркли перед яркостью его сравнений и описаний, где всегда встречались новые образы и дивные слова. Абу Марван ибн Хайян сказал о нем: «Абу-ль-Валид происходил из почтенного рода законоведов, осевших в Кордове в дни великой смуты. Образованный и сведущий во многих науках и видах искусства, он обладал необычным поэтическим даром и легко возвысился, ибо отличался чрезвычайным красноречием и чрезмерным честолюбием. Он так был уверен в себе, что брался за любое поручение и важное дело, и все казалось ему доступным и легким. Его приблизил к себе один из правителей Кордовы, Зуфур Кривой, но затем, охладев к нему, заточил в темницу. Тогда Абу-ль-Валид обратился к эмиру Ибн Джахвару, и отец эмира, Абу-ль-Хазм, заступился за него и избавил его от беды. Когда же власть перешла к Ибн Джахвару, тот возвысил Ибн Зайдуна, отдав ему предпочтение перед всеми другими, кого он еще заранее выбрал ко дням своего правления. Ибн Джахвар стал платить ему большое жалованье и всячески привечал его, чем тот, однако, не удовлетворился, как все утверждают.
Случилось так, что Ибн Джахвар послал Ибн Зайдуна с каким-то поручением к Идрису ибн Али аль-Хасани, правителю Малаги, и Абу-ль-Валид оставался у него слишком долго. Идрис приблизил его, подружился с ним и сделал его своим постоянным собеседником, проводя с ним часы досуга. Тогда Ибн Джахвар потребовал, чтобы Ибн Зайдун немедленно возвратился, и когда тот выполнил приказание и вернулся в Кордову, эмир стал упрекать его за неподобающее поведение и сместил с поста, но вскоре возвратил свое благоволение.