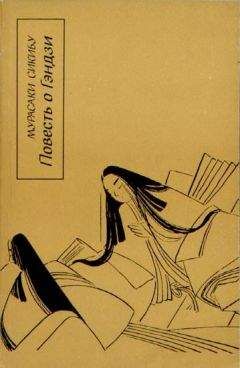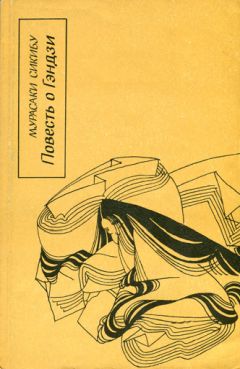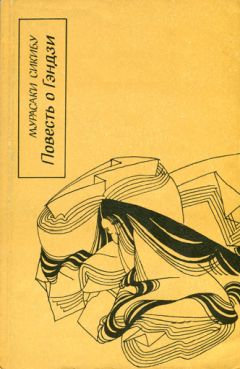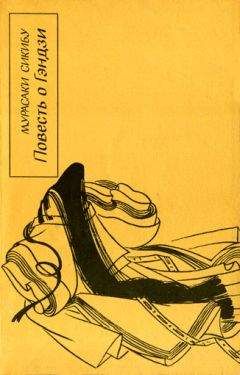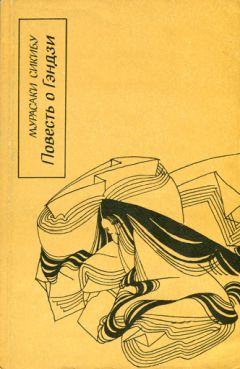Мурасаки Сикибу - Повесть о Гэндзи. Книга 1
За прошлые годы она испытала сполна все горести, какие только могут выпасть на долю женщины, но в таком отчаянии еще не бывала. Со дня Священного омовения, когда по воле ничтожного случая она оказалась опозоренной, уничтоженной презрением, на сердце у нее было неизъяснимо тяжело, одна лишь мысль о нанесенном ей оскорблении лишала ее покоя. Уж не оттого ли стало происходить с ней нечто странное? Стоило задремать ненадолго, и тут же представлялось ей: вот входит она в роскошные покои, где лежит какая-то женщина, будто бы ее соперница. Охваченная слепой, безумной яростью, она вцепляется в эту женщину, таскает ее за собой, бьет нещадно… Этот мучительный сон снился ей довольно часто. Иногда миясудокоро казалось, что она теряет рассудок. «Как горько! Неужели и в самом деле душа, «тело покинув, улетела куда-то далеко?..» (78) — думала она. — Люди отравляют подозрениями самые невинные проступки, а уж такой возможности они тем более не упустят».
И в самом деле, о ней уже начинали злословить. «Я слышала, что иногда человек, уходя из мира, оставляет в нем свои обиды, и неизменно содрогалась от ужаса, представляя себе, какими тяжкими прегрешениями должен быть обременен такой человек. И вот теперь нечто подобное говорят обо мне самой, да еще при жизни! Что за горестная судьба! О нет, я и думать больше не стану о нем», — снова и снова говорила себе она, но, право, «не это ль называется «думать»?» (79)
Жрица Исэ еще в прошедшем году должна была переехать во Дворец,[230] но из-за каких-то непредвиденных осложнений это произошло лишь нынешней осенью. На Долгую луну ей предстояло отправиться в Священную обитель на равнине, и шла подготовка к принятию Второго омовения. Однако миясудокоро целыми днями лежала в каком-то странном полузабытьи, и приближенные жрицы, чрезвычайно обеспокоенные состоянием больной, призвали монахов, чтобы читали молитвы в ее покоях.
Нельзя сказать, чтобы жизнь миясудокоро была в опасности, нет, но какой-то недуг постоянно подтачивал ее силы. Шли дни и луны, а ей все не становилось лучше. Господин Дайсё время от времени наведывался о ее здоровье, но состояние другой, более дорогой ему особы по-прежнему внушало опасения, и сердце его не знало покоя.
Срок, казалось, еще не вышел, как вдруг, застав всех в доме врасплох, появились первые признаки приближения родов, и больной стало еще хуже.
Поспешили прибегнуть к помощи новых молитв и заклинаний, но вот уже все средства оказались исчерпанными, а упорный дух все не оставлял ее тела. Даже самые искусные заклинатели были поражены и растерялись, не зная, что еще предпринять.
Но наконец с превеликим трудом удалось им смирить и этого духа, и, разразившись душераздирающими рыданиями, он заговорил:
— Приостановите молитвы, мне нужно сказать что-то господину Дайсё.
— Так мы и знали. Все это неспроста! — воскликнули дамы и подвели Гэндзи к занавесу, за которым лежала госпожа. Быть может, приблизившись к своему пределу, она хочет что-то сказать ему на прощание?
Левый министр и супруга его отошли в сторону. Монахи, призванные для совершения обрядов, негромко читали сутру Лотоса, и голоса их звучали необычайно торжественно. Приподняв полу занавеса, Гэндзи взглянул на больную: лицо ее было прекрасно, высоко вздымался живот. Даже совершенно чужой человек растрогался бы до слез, на нее глядя, так мог ли остаться равнодушным Гэндзи? Белые одежды[231] подчеркивали яркость лица и черноту длинных тяжелых волос, перевязанных шнуром. Никогда прежде не казалась она ему такой нежной, такой привлекательной. Взяв ее за руку, он говорит:
— Какое ужасное горе! — Тут голос его прерывается, и он молча плачет.
Женщина с трудом поднимает глаза, всегда смотревшие так холодно и отчужденно, и пристально вглядывается в его лицо. По щекам ее текут слезы, и может ли Гэндзи не испытывать жалости, на нее глядя? Мучительные рыдания вырываются из груди несчастной, и, подумав: «Видно, печалится о родителях своих, да и расставаться со мной вдруг стало тяжело», Гэндзи принимается утешать ее:
— Постарайтесь не поддаваться тягостным мыслям. Настоящей опасности все-таки нет. Впрочем, в любом случае мы снова встретимся, вы знаете, что это непременно произойдет. С отцом и матерью вы тоже связаны прочными узами, вы будете уходить из мира и возвращаться в него, но они не порвутся. Даже если вам и предстоит разлука, она не будет долгой…
Но тут послышался нежный голос:
— Ах, не то, все не то… Я так тяжко страдаю, потому и просила прекратить молитвы хотя бы на время. Я вовсе не думала приходить сюда вот так… Но душа, когда снедает ее тоска, видно, и в самом деле покидает тело…
Тоски не снеся,
Душа моя тело покинула,
В небе блуждает.
О, молю, ты верни ее,
Края платья стянув потуже…[232]
И голос и поведение больной — все неузнаваемо преобразилось. «Невероятно!» — недоумевал Гэндзи и вдруг понял, что перед ним миясудокоро.
До сих пор он с возмущением отвергал любые слухи, касающиеся этой особы, видя в них лишь нелепые измышления злоречивых людей, и вот теперь получил возможность убедиться, что такое и в самом деле случается в мире. Это было ужасно.
— Вы говорите со мной, но не ведаю я — кто вы. Назовите же свое имя, — просит Гэндзи, и лежащая перед ним женщина совершенно уподобляется миясудокоро. Никаких слов недостанет, чтобы выразить то, что он почувствовал! Кроме того, ему было неловко перед сидящими неподалеку дамами.
Услыхав, что голоса затихли, и подумав: «Уж не легче ли ей», мать приблизилась с целебным отваром, а дамы приподняли госпожу, и вот тут-то появился на свет младенец. Сердца присутствовавших исполнились радости безграничной, но перешедшие на посредников злые духи, раздосадованные поражением своим, неистовствовали в тщетной ярости, да и о последе надо было еще позаботиться. В конце концов — и уж не благодаря ли великому множеству принятых обетов — благополучно справились с этим, и скоро монах-управитель с горы Хиэ и прочие высокие монахи, удовлетворенно вытирая потные лица, разошлись кто куда. Впервые за эти тревожные дни все облегченно вздохнули, думая: «Ну, теперь-то, что бы ни случилось…» И хотя в доме продолжали читать молитвы и произносить заклинания, напервое место вышли совершенно новые и весьма приятные заботы, заставившие людей отвлечься от тревожных мыслей. В положенные дни от ушедшего на покой Государя, от принцев и вельмож — от всех без исключения приходили гонцы с многочисленными роскошными дарами,[233] и в доме Левого министра царило радостное оживление. А поскольку младенец был к тому же еще и мужского пола, все полагающиеся по этому случаю обряды справлялись с подобающим размахом и пышностью.
Слухи о столь значительном событии не могли оставить миясудокоро равнодушной. «Говорили, что состояние супруги Дайсё вызывает опасения, но вот все окончилось благополучно», — думала она, то и дело возвращаясь мыслями к тому мгновению, когда столь удивительным образом потеряла всякую власть над собой. Ей все время казалось, что одежды ее пропитаны запахом мака,[234] она мыла голову, меняла платье, но неприятный запах не исчезал. Испытывая отвращение к самой себе, миясудокоро с ужасом думала о том, что станут говорить люди. Однако такую тайну невозможно было кому-то доверить, и она печалилась в одиночестве, постепенно теряя рассудок.
По прошествии некоторого времени Гэндзи удалось обрести душевное равновесие, и только все так же содрогался он от ужаса, вспоминая непрошеные признания, услышанные им в тот страшный миг. Велико было сочувствие, испытываемое им к миясудокоро, но еще больше страх, что, увидев ее близко, он не сумеет скрыть неприязни и скорее огорчит ее, чем обрадует. Все это во внимание принимая, Гэндзи не появлялся на Шестой линии и ограничивался короткими посланиями.
Между тем супруга его, изнуренная страданиями, по-прежнему требовала неусыпных забот, ее близкие терзались дурными предчувствиями, и Гэндзи, вполне разделяя их опасения, на время отказался от свиданий со своими возлюбленными.
Чувствуя себя совсем еще слабой, госпожа не могла принимать его в своих покоях. Младенец же был так хорош собой, что, глядя на него, трудно было избавиться от страха за его будущее. Гэндзи опекал сына с величайшей нежностью, и, видя, что сбываются самые заветные его чаяния, министр не скрывал своей радости, которую омрачала лишь тревога за дочь. «Но ведь от такого тяжкого недуга сразу не оправишься», — успокаивал себя он, и, право, можно ли было в такое время предаваться печали?
Глядя на новорожденного, который уже теперь многими чертами своими, особенно красивым разрезом глаз, обнаруживал удивительное сходство с принцем Весенних покоев, Гэндзи ощутил вдруг нестерпимое желание увидеть принца и собрался во Дворец.
— Давно уже не бывал яво Дворце, это меня беспокоит, пожалуй, сегодня я решусь нарушить свое затворничество. О, как хотел бы я побеседовать с вами не через занавес! Вы слишком отдалились от меня, — упрекал он супругу.